Обессилевший, Иван пристально посмотрел на отца.
— Что смотришь, как баран на новые ворота? — усмехнулся Епифан Парамонович. — Дивишься, что на мне купеческое одеяние? Так я и есть маньчжурский купец. Это я в Ольховке Епишкой прозывался. Теперь, брат, меня Епифаном Парамоновичем величают. В пояс кланяются! Да, да!
— Чудное дело! С чего же это ты разбогател? — спросил Иван и, не получив ответа, сказал: — Видно, правду в Ольховке болтали, что ты в гражданскую на складах у нерчинских купцов промышлял…
— Брехня, сущая брехня! — возразил отец. — Если и брал — самую малость: ящик спичек да мешок чаю. Все на пожаре сгорело. Да ишо сумку подков приволок — сорок штук!
— Зачем же тебе столько подков?
— Это я для счастья. Из-за этих подков мне и пофартило добыть золотой клад в кургане. Помнишь? С того клада я и пошел. В Ольховке Степка Жигуров не позволил бы мне разбогатеть. А тут — пожалста. К тому же повезло — выгодно оженился. Тоже рукав к шубе…
— А что же ты меня в ольховской рубахе вчера встретил?
— Ту рубаху, сынок, я в гардеробе храню для показу, Смотри, народ, кем я был и кем стал! Ну, и для встречи с тобой — как с красным командиром — в ее обрядился.
Я знаю: красные любють бедненьких. Так ведь? — хитровато улыбнулся он.
— Как они тебя приняли здесь, красного партизана?
— Кто там помнит Епишку-обозника! Приголубили как беглого кулака, — ответил Епифан Парамонович.
Он прошел в соседнюю комнату и вынес оттуда дорогой темно-синий костюм в рубчик — как раз такой, о котором долгие годы мечтал Иван.
— Тебе тоже надо обрядиться. Не ровен час… Снимай к черту свою обгорелую робу да засовывай поглубже руки в карманы на зависть всему народу!
— Снимать форму мне еще рано. Может, повоевать доведется.
— Не навоевался, что ли? Мало пролил кровушки?
Иван с нескрываемой подозрительностью посмотрел на отца, стараясь угадать, куда он клонит и что ему следует сказать в этой сложной, напряженной обстановке. Епифан Парамонович понял этот взгляд, повернулся к дочери:
— А ты чего здесь уши навострила? Марш отседа! Чего тебе слушать наши мужицкие разговоры?
Когда Ляля вышла, отец сел в кресло, потрогал золотую цепочку.
— Пришла пора, сынок, поговорить с тобой по душам, как отец с сыном. Не знаю только, с чего начать и как все обсказать. Жисть — она трудная штука. Ты вот вчерась заговорил о прощении грехов и зовешь вроде бы меня в Ольховку? А зачем же нам с тобой туда ехать? Хвосты коровам крутить? Навоз чистить да за плугом по полю маяться? Зачем нам такая скушная жизня, если у нас с тобой капиталы имеются?
— И что же ты предлагаешь? — насторожился Иван, щуря глаза.
— Что предлагаю? — переспросил отец, рассматривая сына. — У меня планты простые — хочу, чтобы ты прожил свою жизню человеком, а не какой-нибудь шантрапой.
— Хорошие планы.
— То-то же! Вот я и хочу, чтобы ты в моем доме не гостем был, а хозяином.
— Что-то я не понимаю тебя.
— А что тут понимать? Вот кончится война, уберутся отседа эти проклятые японцы — начнем мы с тобой здесь торговать да барыши наживать!
Иван широко открыл вспыхнувшие ненавистью глаза, хотел крикнуть: «Вон отсюда, подлец!» Но, вспомнив о предупреждении сестры, сдержался: свиреп отец в гневе, а в городе японцы. Не навлечь бы на ребят беды! Подавив в себе клокотавшее негодование, он сказал спокойным и даже веселым тоном:
— Неплохое дельце ты мне придумал — к-керосинчиком да крестиками торговать. Не пыльная работа!
Епифан Парамонович с недоумением поглядел на сына, стараясь понять, рад он или не рад его предложению. И, заключив, что он смеется над ним, ехидно проговорил:
— Ишь ты, умник! Гарцует перед отцом, как генерал Скобелев на коне. Только ни одной звездочки не заслужил. Лычки на плечах носит. Аника-воин! А нос дерет, как сам генерал!
— Вон ты про что. Только лычками ты меня не кори: они тоже имеют цену. А в генералы я не вышел по твоей милости. Грамотешка слабовата. Поучиться не довелось как следует: безотцовщина, сын бегляка.
— Так чего ж ты нос дерешь? Партейный небось?
— К сожалению, и тут не достиг. И опять же из-за тебя. Куда же в партию соваться, если хвост тобой замаран?
— Да, не дюже щедро одарила тебя советская власть. Даже кустюм, говоришь, не смог справить…
Многое хотелось Ивану бросить в глаза своему беглому отцу, но он сумел сдержать себя: негоже в такой момент сводить счеты. Мудрость испытывается в гневе. Вместо всех желчных слов, которые давно в нем копились и готовы были теперь сорваться с языка, он сказал:
Читать дальше
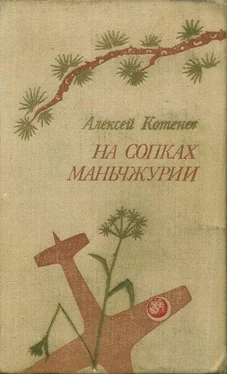






![Алексей Котенев - На Забайкальском фронте [Документальные повести, очерки]](/books/393142/aleksej-kotenev-na-zabajkalskom-fronte-dokumenta-thumb.webp)


