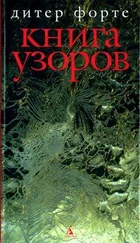Разглагольствования Вольцова вызывали у Хольта недоумение, словно он слышал подобные речи впервые. Да кто же это, думал он, стоит там, наклонившись над картами?
— …подошли, если бы не… и я бы в случае… удалось бы, но… наверное удалось бы, если б…
Я бы, если бы, в случае, наверное…
Завеса прорвалась. Хольт проснулся. Он пришел в себя. Раньше он видел и темный подвал, и стол с картами, и пьяного лейтенанта лишь неясно, расплывчато, будто сквозь туман. Теперь все предстало перед ним ясно, выпукло, четко. Мысль заработала с последовательностью и остротой, которые целую вечность притупляли апатия и равнодушие, — если он вообще когда-нибудь способен был мыслить, он, ищущий с завязанными глазами в темноте… Мыслительный аппарат в один миг перепахал весь прежний опыт, по-новому осмыслил все впечатления, перевернул всю его жизнь с головы на ноги и перенес его из прошлого в настоящее.
Хольт словно завороженный глядел на Вольцова. Он знает его больше двух лет, срок немалый. Два года они бок о бок воюют. Рядом стояли у орудия на зенитной батарее, видели и атаки на бреющем полете, и бомбовые ковры, вышли живыми из боев на Карпатах, бежали сквозь снег и вьюгу с Восточного фронта, сидели в одном танке. От глупых мальчишеских выходок до рукопашной с американцами — все пережили вместе. Да, Хольт знал Вольцова, ничего в нем не было нового, ничем он не мог его удивить.
Но во втором часу раннего апрельского утра 1945 года он как бы впервые его узнал, впервые увидел. Он глядел на Вольцова не отрываясь, как на постороннего: рослый, плечистый военный, нервно подергивая бровями, стоял у карты и, подкрепляя свои объяснения движением руки, говорил: «Я бы такую атаку…» Чужой человек, хотя желтый свет керосиновой лампы озарял хорошо знакомое лицо.
Разбитая, обескровленная рота, продолжал думать Хольт, люди повалились и спят, смертельно усталые, в кустах, под деревьями, в разбомбленных подвалах, кто в пропитанных кровью бинтах, у кого сотрясение мозга, у кого шок.
Будто что-то разбилось в груди у Хольта. Этот Вольцов, думал он, стоит у карты, а там, снаружи, спит в изнеможении рота, спят люди, но для Вольцова они ничтожная величина в уравнении со многими неизвестными, только стрелки на карте, пешки, игрушечные макеты в большом ящике с песком, неодушевленные предметы и больше ничего. Но кто же Вольцов для них, для меня?
Смутная догадка мелькнула, укрепилась, стала уверенностью. У Хольта даже дух захватило. Повязка спала с глаз, темноту сменил яркий свет.
Он — это наша судьба.
Судьба, думал он, провидение, бог, мы бессильны, мы пешки в большой игре… Судьба, думал он, моя судьба — это Вольцов. И где у меня были глаза, где разум? Моя судьба — человек, живой человек из плоти и крови, с мозгом и бьющимся сердцем, присваивающий себе власть над жизнью и смертью; он — или другой — как здесь, в подвале, так и всюду, по всей стране, и в малом и в великом… Он понял: нечто безымянное, система, хорошо продуманная, знаки различия, мундиры, целая иерархия насилия — вот наша судьба! Всё ложь и обман. Тупость обожествлялась, а провидение оказывалось холодным расчетом! Не перст судьбы над гонимыми, не предначертающее путь провидение, не бог над бренными смертными, а человек над человеком, властелин над безвластными, смертный над , смертными.
Он пристально посмотрел на Вольцова. Теперь он видел его насквозь. Этот унтер-офицер в фуражке лейтенанта, у которого голова полна всевозможных планов, осуществимых и неосуществимых, но всегда смертоносных, начиненных историческими фактами и параллелями — для каждой ошибки пример, и для каждого убитого пример, — этот человек, так же как Цише, и отец Цише, и Бем, и Венерт, и прочая сволочь, — олицетворенное насилие: это преступник, присвоивший себе власть посылать людей на смерть, убийца по призванию и профессии. А я был его послушным орудием, его подголоском, думал Хольт.
Его подавляло чувство собственной вины. Оно затягивало его в омут прежней апатии; я всегда стоял не на той стороне, с самого начала, в Словакии, на Восточном фронте, до сегодняшнего дня. Я во всем участвовал. Я все видел и молчал. Что-то от этого было и во мне. Да, я виновен.
В душе бродило и поднималось новое чувство: жгучая ненависть. Теперь он понял все. Он понял и возмущение Гомулки, там, у противотанкового заграждения, и слова ефрейтора: «Вот она, милитаристская сволочь! Она не хочет вымирать, будет убивать и дальше! Нет, эти хуже!» И он осознал, на чью сторону ему следовало встать: на сторону Гомулки, ефрейтора, словачки, узников в полосатых куртках. Он посмотрел на Вольцова: вы нас погубили, а этот готовит новые убийства, рисует стрелки будущих атак и рассуждает, почему часть сил должна быть брошена на север… Часть сил! И всего-то навсего пятьдесят солдат!
Читать дальше