– А ну, глянь, ровно ли? – представился он жене, вскинув подбородок.
Нюша, крупная, рукастая женщина, ухватила Петрована за сухонькие остряковые плечи и повертела туда-сюда, сощуренно отстранясь и сведя губы дудочкой.
– Ну, чего? Нигде не торчит?
– Вылитый царь Николай! – усмешливо одобрила Нюша. – Чуток бы росточку и – в самый раз на престол!..
– Ладно тебе! – не принял похвалу Петрован. – Все шуткуешь. А мне на люди идти. Глянь заодно, как там плешка: далече ль расползлась? Мне ить не видно. И зеркало никак не наведу – пляшет все…
– А тебе какая разница? Все одно в картузе пойдешь…
– Оно-то так… – задумчиво потупился Петрован. – Дак бесова печать и под картузом свое берет, человека изводит. А ить еще недавно со сна расчесать не мог. А?
Нюш? Ужли забыла? И у тебя какая коса была – сущее перевясло! Куда все девалось…
– Туда и девалося… – Нюша шутливо взъерошила легкую седень на детской голове своего суженого и поддала ладошкой под зад, по пустым дряблым штанам. – В чем пойдешь-то: в сапогах али в плетенках? На дворе уже обсохло, можно и в плетенках: эвон сколь пехать – умаешься, ноги в сапогах набьешь… Оне теперь и вовсе негожи. Сколь им годов-то? Боле полста минуло? Ты в них ишо аж с войны вернулся.
– А чего им сдеется? – Петрован еще раз взглянул на себя, стриженого, в косое зеркальце. – Я в них только на чево важное. Однова в году, а то и реже. Даже подковки целы. Бывало, и за два, и за три года ничево таково, штоб в сапогах… Правда, последний раз не так давно обувал. Той осенью, на Покрове – в Ряшнице Сингачева хоронили, одногодка. Наград – куда больше мово, двенадцать мальчиков несли… Из карабинов палили. Раз, да другой, да третий… Да-а… А больше никуда не хаживал, все чаще в кедах да плетенках. Теперь дак и на похороны не зовут: дорого стало. Приезжего человека надо ж приветить, угол ему определить, опять же и поужинать, и позавтракать. Допрежь так-то было, а теперь не стало, ближними обходятся. Сколь уж за последнее время нашего полку отошло, а я про иных и не знаю. Радио молчит, небось проволока соржавела, а газет не читаю – опять же накладно… Ты, Нюша, вот чево… Помажь-ка сапоги деготьком, а я, когда помоюсь, в теплой баньке повешу на ночь, они и помягчеют, расправят слежалые колдобья. Только голяшки не пудри: кирзу удабривать бесполезно.
После бани, неспешной и расслабляющей, Петрован надел все чистое, запашистое, отутюженное, прибавив– шее ему довольства и еще большего умиротворения, и так, в исподнем, с незавязанными тесемками на груди и с распушенной головой и округлой ежовой бородкой, похожий на равноапостольного святого – разлюбезного целителя Пантелеймона, с запихнутой за спину подушкой, чтоб ненароком не продуло, не задело задремавший с пару радикулит, пил с Нюшей крутой чай из разговорчивого самовара, в точности отражавшего одной стороной всю его, Петрованову, белизну и заоблачность, тогда как другим боком цветасто пестрел новым Нюшиным халатом. Чаевничали перед окном, распахнутым в майский румяный вечер с золотой полоской над дальним лесом, в завтрашний Велик День, коим в этой избе уже более полувека считалось Девятое мая.
Петрован в таких случаях требовал себе блюдце, придававшее чаепитию особую неспешность и значимость. Испив и накрыв чашку, он сладостно утирался красно размереженным рушничком, им же обмахивался, будто веером, и добродушно говорил что-либо обычно молчавшей Нюше:
– Вот ты давеча: картуз да картуз… Да не картуз вовсе! Не картуз, а фуражка. Фу-раж-ка! Сколь тебе говорить? У картуза околыш просто так, штоб на ушах держался, глаза не застил. А у фуражки околыш со значением. Чтоб издаля было видать, кто перед тобой, в каком войсковом служении. Допустим, идет тебе навстречу чин с красным околышем, кто таков, а? Ну-ка, скажи…
Нюша делает вид, будто не расслышала вопроса, принимается подкладывать Петровану засахаренную клюкву.
– Нет, ты скажи, скажи, не увиливай, – начальственно твердел голосом Петрован. – Кто таков в красном околыше?
– А-а, подь ты! Ничево я вашева не знаю.
– Погоди, сразу и не знаю… Я ж тебе про все это рассказывал…
– Забыла я за ненадобностью.
– Ну вот тебе – за ненадобностью. А ежли я тебе встречусь, то в каком околыше?
– А ляд ево знает…
– Запомни: в черном я буду. В черном!
– А пошто – в черном-то? Али ты хуже всех?
– Танкист я, вот пошто. Танкисты черные околыши носят. А еще – артиллеристы. Потому как техника. Сталь да чугун, дым да копоть. Тут красное или зеленое не к лицу. А черное – в самый раз. Это по праздникам. А так, по будням, я в шлеме должен быть. Дак на войне и ходили только в одних шлемах. А фуражек и не было, не успевали получать, потому как праздников не случалось: все бои да ремонты. Рваную гусеницу закувалдишь – фрикцион полетел… Сходил в атаку – башню заклинило… Да оно зимой фуражка и не по делу: уши только морозить. А ветром сдует, дак потом сколь по снегу бежать за ней…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

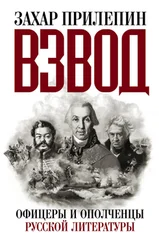







![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)


