– А там к кому?
– К Пожневу. Василь Михалычу.
– А Макаренок живой?
– Это который?
– Ты чё, Макаренка не знаешь? Он ить тоже из наших, из ветеранских…
– Да кто ж такой – не упомню?..
– Изба за протокой. Всегда под его окнами гармошка пиликала, народ толокся.
– А! Макар! Макар Степаныч! – вспомнила Пашута. – Шавров его фамилия. У меня по спискам – Шавров.
– Ну, тебе – Шавров, а мне – Макаренок: в одну школу бегали.
– Этого давно нет, дом крест-накрест заколочен. Года два как нету…
– Уехал куда? У него, кажись, сын в Набережных Челнах.
– Из больнички не вернулся. Стали старый осколок доставать, будто бы мешал, что-то там передавливал, а мужик и не сдюжил… Не пришел в сознание.
– Дак а Ивашка Хромов?
– Тому медали больше не дают.
– Это почему? – насторожился Петрован.
– А он по электричкам подался. На культе рукав задерет и – «Подайте минеру Вовке!..»
– Он же Иван, а не Вовка?
– Дак это – участник Великой Отечественной войны, а сокращенно – ВОВ. Ну, а он себя – Вовка. За то и не дают ему медалей. Боятся, что пропьет. Он же все свои прежние пустил на похмелку.
– Ну и посадили б, раз так.
– Дак вроде не за что: не украл…
– Лучше б украл: все ж варево на кажный день. И в баню сводили б… А так позор заживо съест.
– Это правда. Видела его на станции: опух, зверем зарос, босый ходит, ногтями по настилу стучит. От меня отвернулся, будто не знает такую.
– Стало быть, в Осинках теперь – ни души?..
– Один Пожнев и остался. Да и тот все ногу на подушке держит, лопухами обкладывает. Ему б на грязи, да грязи нынче кусаются… Такие деда… таковские… Тот раз, к писятлетию, шестерым повестки возила, а нынче – только одну.
– А в Клещеве как?
– Туда уже не шлют… – Пашута перекрестила шарфик.
– Да-а, – обреченно заозирался по сторонам Петрован. – Лихо косит нашего брата. Уже к последним рядкам укос подобрался: к двадцать пятому да двадцать шестому году. То спереди меня, то позади вжикнет… А иные раньше моего под Стожары убрались.
– А чево хотел? Народ вовсе брошенный. Особенно в деревнях. Я езжу, дак вижу: ни еду, ни марлички. Здравпункты травой поросли, обрезают туда провода, режут за неуплату телефоны… Что случись – не докричишься… Ну, поехала я, а то не туда мы заговорили. Надо б радоваться: за медалью зовут, а мы… Держись, Петр Иваныч, не поддавайся лиху… Да собирай гос– тей… – и Пашута белым курносым кедом порывисто надавила на взведенную педаль.
– Да, Пашка, да, девка… – неопределенно проговорил Петрован и перевел прищур с мелькавшей кедами почтальонки на разбродно и ленно бредущие в майском небе облака, как бы безвозвратно уносившие в вечность земные дни и мгновения.
В прежние времена из Брусов, где проживал Петрован, за юбилейными медалями отправлялось немало бывалого люду, из коего, если б подровнять носки, можно было выстроить не меньше взвода. Но вот и в Брусы пришел предел, и теперь из всех уцелел один Петрован, пока пощаженный летом времени, поди, из-за того, что был он сух, скрипуч и шершав, как пустырный кузнечик. Несмотря на недочет пальцев, остался он хваток до всякого дела: тесать, пилить, виртуозничать стамеской, плести грибные кузова, класть легкодымные печи и лежанки и много еще чего. Но пуще всего отдавался он тракторному делу, которым заболел еще мальчонком, и два года перед войной провел прицепщиком. Семь ребячьих шкур спустил на жаре, по августовскому чернопаху, и белых мух вдосталь наглотался из снежных зарядов, а однажды задремал за плугом, да чуть было не сбрушило лемехом, расчищенным добела. Но ничто не отвратило его от трактора, от керосинового пота и натужного рева и грохота. Даже в свои семьдесят лет он, как прежний Петька Костюк, в неизбывной восьмиклинке с пуговкой на макушке, еще гонял на многопрофильном тягунке: окучивал колхозную, уже ельцинскую, картошку, морил колорадского жука, подбрасывал солому на ферму, бульдозерил на разъезженных дорогах – делал из грязи асфальт и ровноту. Он и теперь бы колесил на своем «Беларусе», понимавшем Петрована с одного кивка, если бы колхоз не распался на дольщиков, из коих кто-то однажды ночью выкрал из того «Беларуса» еще теплое сердце – чиненый-перечиненый движок, а на прокеросиненном сиденье оставил крутую лепеху с огуречными семечками…
Тем же вечером Петрован велел жене Нюше истопить баньку, и, пока та носила в котел воду и шебуршала берестой, налаживая пал, он, стащив рубаху и приладив на поленнице косяк битого зеркала, обстоятельно и придирчиво обстриг покороче отпущенную было на волю, не шибко дружную бороденку, а заодно и укоротил лешачьи брови, уже начавшие застить белый свет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

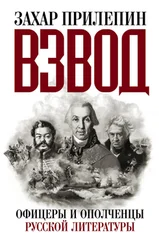







![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)


