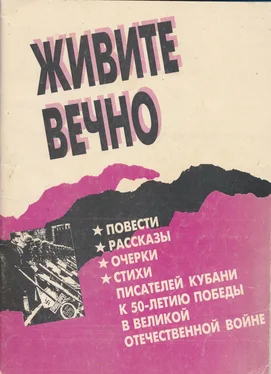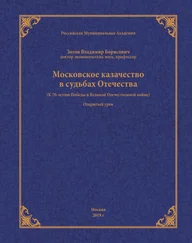2.
Выгрузившись из эшелонов, далеко не доезжая Сталинграда, мы почти без передышек, зачастую и ночью, шли к фронту в пешем порядке, стараясь не выдавать себя, а потом уже совершенно открыто. Спешили как могли — кто‑то, конечно, настойчиво торопил, и не от хорошей жизни. Мой 351–й стрелковый полк попал под бомбежку среди бела дня на ровной проселочной дороге, не отбитой даже кюветами, хотя бы щелочка или рытвина какая… Бомбы падали близко — густо, но обошлось чудом без потерь, кому‑то шею оцарапало. Пока еще судьба щадила, да и что там — один самолет, горсть бомб!
Потом была дневка в каком‑то лесу близ Михайловки, горячая еда из концентратов, торопливая стирка, врачевание кровавых ссадин на ногах — и снова бросок, кажется, последний. Отставали, падали от изнеможения… Командиры понукали и матерились, грозили расстрелом за дезертирство. Легко грозить, когда у самого нет полной боевой выкладки…
Однажды к вечеру разыгрался над нами скоротечный воздушный бой. Никто на него не обращал уже внимания, думали каждый о своем невеселом, тупо смотрели под ноги: не бомбят — и ладно! Покуда дело там, в вышине, не свелось под конец к тягостному поединку плоскорылого И-16 («ишака») с «мессершмиттом», превосходящим нашего истребителя и в скорости, и в маневре… Это была игра в кошки — мышки, к тому же на «ишачке» вышел боезапас, и он как‑то враз лишился бодрострекочущего голоса. Закладывая над ним вольготные виражи, даже не стреляя, «мессершмитт» все более прижимал беднягу к земле, пока тот не врезался в холм, сразу окутавшись клубами черного дыма…
Летчика извлекли из кабины в ожогах, уже мертвого. Не мальчишка, но и не мужик: 1923 года рождения, девятнадцатый год. Неопытный, необстрелянный, кое‑как наученный летать, для важности отмеченный угольничками старшего сержанта, на самолете, многим уступавшем «мессершмитту» — что он мог?!
Догорающий, чадящий «ишачок» остался далеко позади, но обезображенное ожогами, некогда деревенски простецкое лицо бередило душу. Это была первая смерть, увиденная мною на войне, оборвавшая чью‑то жизнь на самом ее взлете. Записать бы фамилию летчика, запомнить его… Да ведь не разрешали записывать, вести дневники, фотографировать. Хотя чего уж фотографировать при нашей вопиющей бедности и фронтовом неуюте… Эти постоянные унизительные запреты якобы во имя всеохватной и повсеместной военной тайны выхолащивали нас духовно, лишали личной исторической памяти, из которой, факт к факту и опыт к опыту, складывается в конце концов и большая история народа. У немцев, например, едва ли не у каждого была «лейка», и если они проиграли войну, то вовсе не по той причине, что чрезмерно увлеклись фотографированием, раскрылись перед врагом. За мной же и в семидесятом в Крыму гонялись сверхбдительно на мотоцикле, увидев фотокамеру с телевичком…
…Числа седьмого или восьмого сентября меня, мелкого, щуплого, в гимнастерке не по росту, в ботинках с обмотками, впёрвые увидел начальник штаба полка капитан Гузенко. Он посмотрел на эти ботиночки, купленные еще до войны в Киеве в «Детском мире», и понял, что красноармейская обувка, конечно, не подошла мне размером. Вообще в моей фигуре и личности было явное несоответствие установившемуся здесь ходу событий, ненормальной их природе.
Тогда мало у кого были награды. Раз армия бежит, отступает — за что же и награждать? И медаль «За отвагу», полученная Гузенко еще за бои на Халхин — Голе, выделяла его среди других командиров, а в моих глазах и возвышала до героя.
— Ты откуда здесь взялся? — спросил он совершенно ошарашенно.
Пришлось рассказать все по порядку: и как я «путешествовал», сбежав от мачехи, на буферах проходящих товарников в поисках лучшей доли, очертанид которой представлял весьма смутно; и как однажды выяснилось, что очередной такой эшелон — воинский; и как меня, голодного и бездомного, приютили и накормили красноармейцы. Спросили то ли шутя, то ли всерьез: а как, мол, с нами на войну, поедешь? Ну, еще бы не поехать на войну! Спал и во сне видел, наяву грезил… Вот и хорошо, сказали мне, тем более, если ты сам себе голова. Сделаем тебя пулеметчиком, вторым номером на «максиме»!
Сейчас, впрочем, поражает легкость, с какой командир, моложавый, но уже меченный жизненным опытом, в недавнем прошлом тульский шахтер, сам, поди, имевший семью и детей, приставил меня к пулемету. Таким образом, в чем‑то трагически предопределяя дальнейшую мою судьбу, судьбу еще подростка, мальчишки… Ведь мало было надежды остаться живым и невредимым в том пекле, заслоном от которого мог пока еще быть мой возраст. Но вот волею случайности, скорее даже каприза, и этот заслон был снят. С другой стороны, поскольку я жив и здоров (весьма относительно), не могу не гордиться теперь, 4to имею самое прямое отношение к Сталинградской битве, на мой взгляд, величайшей из битв ХХ — го века.
Читать дальше