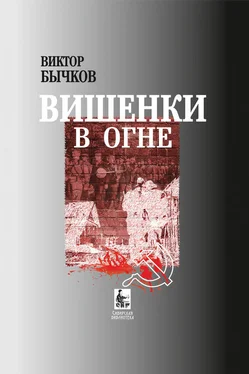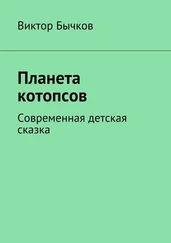По настоянию товарища Чадова всё же провели общее собрание партизанского отряда. Вот там-то и заявили партизаны из Руни и Пустошки, что не уйдут из своего леса. Их поддержали вишенские, слободские.
– Помирать, так дома, – было их единодушным решениям. – А там раскидают нас по белу свету не знамо куда. И кого ещё поставят над нами, не понятно. Мы уж со своими командирами в своём лесу останемся. Партия большевиков не запрещает громить фашистов там, где мы того желаем.
– Воевать легше, когда рядом плечо знакомца…
– И леса наши хорошо знаем…
– Семье кто поможет, если не мы сами…
Не приняли тогда предложение партийного товарища партизаны, не объединились с другими отрядами.
Спусти несколько дней после этого совещания, командир взвода партизанских разведчиков узнал через своего человека в полиции, что немцы поймали на обратной дороге товарища Чадова со связником из соседнего района, повесили на площади в райцентре.
Потом летом ближе к осени ещё раз приходил представитель подпольного райкома партии, но так и ушёл, не договорившись с местными партизанами. Тоже пытался командовать, ставил под сомнение боевые возможности и способности отряда, не верил в успехи местных партизан.
– О Родине думать надо, а не о своих деревеньках, – упрекал в местничестве представитель райкома. – Вместе, сообща мы быстрее освободим Отечество, – пылко и убедительно пытался доказывать партизанам.
Но не убедил, остались партизаны при своём мнении.
– А тут разве не Родина, дорогой товарищ? – спрашивал в тот момент Роман Прохоров, сын расстрелянного предводителя крестьянского восстания в Пустошке во времена продразвёрстки Семёна Прохорова. – Иль ты уже нас за советских людей не считаешь? Мы свою Родину и защищаем. Она у нас вот здесь, в округе, в лесах вот этих. Ты разве не знал?
Почти два года немцы не могли носа казать в Пустошку. Всё это время там пахались поля, снимались урожаи. Именно благодаря Пустошке обеспечивались продовольствием партизаны и помогали жителям Вишенок и Руни выжить в это непростое время. Только когда на помощь комендатуре пришли регулярные войска, фашистам удалось взять Пустошку, стереть её с лица земли, сжечь больше половины мирных жителей.
Куда же могли уйти партизаны от своих родных мест? Как бросить? Вот и остались в своих лесах.
Больше никто к партизанам Лосева не приходил, связи с другими отрядами не было.
Сейчас, возможно, и приняли бы приглашение, так уже никто не идёт, не приглашает. Поздно. А тут ещё пленный немецкий лейтенант показал на допросе, что фашисты пытаются блокировать почти все партизанские отряды в лесном массиве. Для этих целей сняли воинские части с фронта, перебросили на борьбу с партизанами. Сам лейтенант как раз оказался одним из тех, кто после лечения в Германии должен быть направлен под Брянск, а оказался здесь.
Так что партизанский отряд Лосева Леонида Михайловича оказался в незавидном положении, впрочем, как и все остальные отряды народных мстителей. Ладно, те отряды объединились, действуют одним мощным кулаком, они способны на что-то и более мощное, как прорыв блокады. А вот отряду Лосева приходится надеяться только на самих себя да уповать на Господа Бога.
Со стороны болот, что тянутся от Руни и почти до Вишенок, нет сплошной линии блокады. Засады и подвижные группы немцев охраняют этот участок. Здесь сами болота, по мнению фашистов, играют роль непроходимой преграды. Однако партизанские разведчики потихоньку пользуются этими болотами, знают несколько трудных, но всё же проходимых тропок. Каждую из этих тропинок показал разведчикам лично начальник штаба партизанского отряда товарищ Кулешов Корней Гаврилович, в прошлом – старший лесничий лесхоза. Он один только и знает все эти болота, леса, чувствует себя в них как рыба в воде.
Вовка Кольцов помнит то последнее совещание в штабе, когда обсуждали своё незавидное положение. Тогда Корней Гаврилович как бы между прочим обмолвился, что если не удастся прорвать блокаду, то останется ещё возможность пройти болотами в соседний район. Вроде когда-то его отец Гаврила Никонорович, тоже лесничий, ещё при царе служил здесь же в лесах, говорил и потом провёл, показывал тогда ещё молодому Корнею тропку, по которой с трудом, но они с отцом вышли в соседний район почти за двадцать километров. Поход тот был от безысходности: разыскивали старшего лесничего Кулешова Гаврилу Никоноровича и красные, и белые, и зелёные, и ещё какие-то вооружённые люди, что заполнили собой в то время эти леса. Он им был нужен как проводник. Но старик рассудил здраво, что все эти людишки, взбаламученные, сбитые с толку властями, временные на этой земле – поохотятся друг за дружкой с ружьями, да и будя. Ну, поубивают себя… А лес останется. И люди, что живут этим лесом, останутся. И как же потом этому народу, землякам своим, он, Кулешов Гаврила Никонорович, должен глядеть в глаза?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу