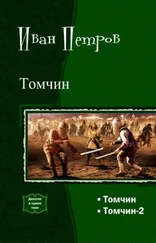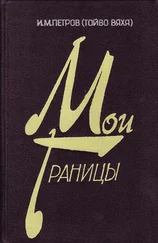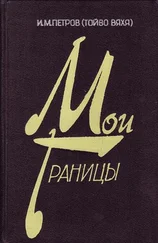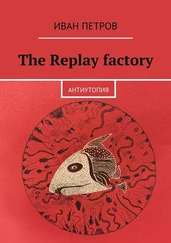Елена перепела Гермогену все арии, все песни, какие только знала. Однажды она даже распустила косы при нем. А он смотрел на нее, глаза его блестели все нетерпеливее. Он даже брал ее за руку, и она не отнимала руки, и ее губы не уставали улыбаться.
А потом к нему внезапно приехала жена, приехала всего на день, навестить, и Елена пришла к Гермогену, в санчасть, когда у него была жена. Боже, каким растерянным и жалким был он, как бегали его глаза, и самое страшное, может быть, было не в жене, а в этих его глазах, бегающих, трусливых. Елена вернулась от него, точно побитая. Вскоре Гермогена перевели из полка. Так вторично, теперь, казалось, насовсем, ушла от Елены прежняя Леночка Гаранина, ушла и на этот раз унесла с собой песни. Музыка отныне являлась к ней лишь во время работы, и Елена, увлеченная ритмом и тактом, снова просиживала за аппаратом днями и ночами, снова валилась от усталости, снова ее чуткие музыкальные пальцы дергались во сне, передавая приказы, донесения, сведения о потерях.
Но жить так, как она жила до Гермогена, она уже не могла. Теперь ей уже хотелось такого счастья, какое она испытала с Гермогеном, ей уже хотелось теплого человеческого внимания, человеческой доброты, без этого внимания она казалась себе выжатой губкой: у самой у нее не осталось и капли той доброты, какую она так щедро дарила когда-то всему свету.
На этот раз Елена заставила себя влюбиться. Ей захотелось влюбиться не в старика, не в женатого человека, а в молодого парня, который всегда грезился где-то впереди, в будущем. Поразмыслив, она решила, что таким парнем может быть Шелковников. Он был виден собой, молод, гибок, аккуратен, обходителен. Единственным недостатком у него была его небольшая голова на тонкой шее, но эта голова, если смотреть на нее отдельно, была далее привлекательной: смуглая кожа, высокий и чистый лоб, прекрасные черные волосы, черные же с грустинкой глаза — его лицо тоже говорило о молодости, гибкости, аккуратности. Несколько дней Елена была до безумия влюблена в Шелковникова, в его с грустинкой глаза, в тонкий и гибкий стан и даже в его модные галифе и сапожки из плащ-палатки. Однажды, следуя с дежурства в строю — а строй этот был очень условным, вольным, просто люди шли, соблюдая какой-то внешний порядок, шли, разговаривая друг с другом, смеясь, меняясь местами по своему усмотрению, — Елена вдруг запела арию «Раз пастушка лесом шла…», неожиданно вдохновилась, пропела ее, как никогда, с чувством, а пропев, не удержалась, спела еще арию Антониды, еще и еще что-то. Ока была точно в чаду, глава ее лихорадочно блестели, голос звенел, девчата просили спеть еще, и она шла и пела, восторженно озирая лес, улыбаясь подругам и вовсе не глядя на Шелковникова, который шел позади вместе с Дягилевым, Стрельцовым и другими мужчинами и тоже слушал ее.
Елена пела для Шелковникова, пела так, как никогда и никому в жизни еще не пела, даже Гермогену, и она поняла, что любит Шелковникова, только Шелковникова, и до него никого и никогда не любила.
Но и эта любовь не принесла ей счастья. Не прошло и двух недель, как у нее пропал интерес к Шелковникову. Елена не могла найти никакого объяснения этому, ей было стыдно за то, с каким огнем и с каким чувством она пела для Шелковникова. Потом пошли слухи о связях Шелковникова с Казаковой, и Елена была абсолютно равнодушна к этому. Случайно она услышала в мужском шалаше стыдный разговор о женщинах, и этот разговор вел Шелковников. Приложив руку к груди, Елена не могла стронуться с места, ее лицо с широко раскрытыми глазами выражало удивление и отвращение. Как это можно? И она пела ему? И она хотела влюбиться в него? Мерзость, мерность! Под заливистый, визгливый хохот Пузырева, доносившийся из мужского шалаша, Елена поскорее отошла подальше, непроизвольно отряхивая руки, гимнастерку, юбку, шепча: «Ах, свистун! Ах, скотина!»
С тех пор она больше никого не любила и не заставляла себя влюбляться. Она уже не хотела казаться молодой и красивой, как Леночка Гаранина, наоборот, с этаким холодным цинизмом, с каким-то злым наслаждением называла себя злой старой девой.
Из девчат она, пожалуй, больше всех отличала Варю Карамышеву. Это было, может быть, потому, что сама Варя больше всех отличала Гаранину, откровенно и прямо-таки с детской непосредственностью любовалась ее работой, а когда смотрела на Елену, то ее глаза будто просили ее, умоляли отдать и ей, Варе, хоть частицу мастерства и умения. Первое время Гаранина могла работать часами, не замечая стоявшей сбоку Вари, не замечая никого и ничего, потом однажды подняла на нее глаза, насмешливо скривила губы, сказала:
Читать дальше