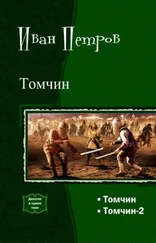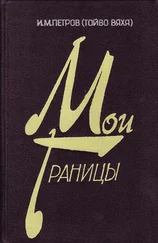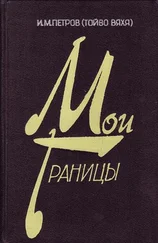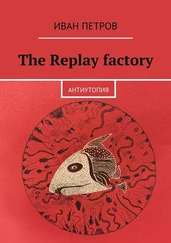В театральном училище он пережил, может быть, самое тяжелое, что выпало на его долю: ему изменила девушка. Узнав, что он попович, она ушла от него. Изгой оставался изгоем; мало того, что его не любили, презирали и отвергали, ему и самому не разрешалось любить.
Евгений перестал читать мудрецов и, будто в отместку за все, поочередно изменил всем своим старым учителям, лишив их своей веры, ибо мудрецы хотели видеть мир справедливым, разумным, они всесильно доказывали, что справедливость и разум непобедимы, на самом же деле никакой справедливости и правды, как ему казалось, на земле не было.
Он перестал ходить в читальню и отныне долгими вечерами бродил без цели по тесным, холодным и серым городским улицам — и весь мир представлялся ему холодным, серым и неуютным. Почему, вопрошал он, люди так не верят друг другу? Почему они как будто делают все для того, чтобы попович навсегда остался поповичем, дурак дураком, кретин кретином? Почему они твердят об изменении мира, а сами не верят в изменение, превращение, обновление людей? Или в жизни легче отвергнуть, отмести, уничтожить все то, что подлежит переделке и обновлению? Может быть, уничтожить, смешать с грязью и в самом деле легче, чем поднять из грязи, переделать и преобразовать? Но если следовать этому, то втоптать в грязь надо тогда почти все, потому что будущее уже само по себе отвергает почти все, что есть в настоящем, не только поповичей!
Именно в это время в нем зародилась жгучая потребность, уже без помощи мудрецов, разобраться в смысле жизни, и жизнь в его разгоряченном мозгу представлялась ему чем-то колючим, больно ранящим, а своя грудь разверзнутой, открытой для всех ударов, кровоточащей. Ему казалось, что он обладал каким-то иным зрением, какими-то иными чувствами, чем другие, счастливые люди: то, что другие не видели, не замечали, он видел, то, что других не трогало, его больно ранило, и он истекал кровью. И именно в это время в нем зародилась потребность к анализу этих больных, ранящих сторон жизни, страстная жажда видеть жизнь лучшей, основанной на разуме и справедливости, потому что, если смотреть на все здраво, людям ничто и не мешало строить такую жизнь. Так он сам, как назвал его Лаврищев, стал мудрецом.
Он ушел из театрального училища. Случай привел его в аэроклуб. Это и решило его судьбу. Сняв свой «подрясник», Евгений вдруг оказался высоким, широкоплечим, статным, и мать, взяв его старое пальто, заплакала, уткнувшись в него лицом: недаром она шила пальто на широкие плечи, ее сын стал богатырем. Она верила, что его жизнь устроится счастливо, потому что он был умен, честен, искренен, правдив и, кроме того, что был поповичем, не имел никакого другого греха перед людьми.
И он обрел счастье. Сменив свой «подрясник» на одежду летчика, он как бы снял с себя и все сомнения и обиды, забыл о них, стал совершенно другим человеком. В полку его считали весельчаком, его громовой голос и трагические монологи теперь звучали по-другому, и люди, летчики, слушая его, улыбались и говорили: «Наш Женя опять в ударе». Он не брал в рот спиртного, не курил, сторонился девушек и был похож на большого ребенка, который со всей детской непосредственностью наслаждался жизнью, собой, людьми, солнцем, небом, как будто хотел вернуть и восполнить все, чего лишен был в детстве и юности. Только сейчас он по-настоящему понял, что главное в жизни не в том, чтобы желать добра и правды, и даже не в том, чтобы любить, а в том, чтобы самому творить добро, самому вершить дела, нужные людям, именно в этом заключалось высшее человеческое счастье. Это открытие украшало Евгения: как правило, все мудрецы мира, начиная от самых древних, лишь тосковали по добру, правде и разуму, он же хотел сам творить их — он был отличным летчиком.
С отцом было все кончено. Лишь однажды, уже в бою, в своем первом воздушном бою, делая заход над «юнкерсом», с силой и яростью нажимая на гашетку пулемета, он вдруг, стиснув зубы, глухо воскликнул: «Это за нашу землю! Это за наше солнце! А это за отца!» — И это прозвучало так, как будто фашисты хотели отнять у него отца, как будто они были повинны в том, что его отец был таким. Это была мгновенная, ослепительная, как молния, мысль. Но молния вспыхнула и погасла — в следующее мгновение он забыл отца.
Война с ее ужасами смерти и разрушения очень больно отразилась на его впечатлительной натуре. В войне для него сошлись все зло и все несчастья, какие только были на земле, и то, что он увидел на войне, не шло ни в какое сравнение с его личными несчастьями. Но ненавидя войну, потому что она мешала людям делать жизнь лучше и красивее, он в то же время был храбрым воином, ему сопутствовало боевое счастье.
Читать дальше