— До тех пор, пока не подошью все! — Он толкает ногой кучу валенок, в которой я узнаю и свои, и мамины, и брата.
— А где все?
— Гулять ушли, — вздыхает он и вонзает шило в валенок.
А я, съев холодную пшенную кашу, сажусь за уроки.
Когда я заканчиваю их, синий вечер наступает на улице.
Сложив книги и тетради, возвращаюсь в большую комнату и вижу, что на сундуке, сладко улыбаясь и причмокивая, как это делают дети, спит Митрофанов, подложив под голову валенок. И пока я хожу за шинелью, чтобы укрыть его, дядя Вася и брат входят в комнату.
— А мы были в Историческом музее! — выпаливает брат.
— Тише ты! Сержант Митрофанов спит!
Дядя Вася подходит к нему и, видя, как я накрываю его, молча улыбается. Митрофанов снова чмокает, и по лицу дяди Васи я понимаю, как он любит сержанта.
Двор дома генерала чист и подметен: ни у крыльца, ни у подъезда нет ни бумаг, ни тем более нечистот. И я вспоминаю рассказ Аркадия Аркадьевича. Минуя парадное, отворяю в конце коридора маленькую дверцу и вижу, что и тут лестница, ведущая вниз, не только вымыта, но и застлана стареньким чистым половичком.
Подойдя к знакомой двери, стучу и слышу краткое:
— Пожалуйте!
Я толкаю ее — навстречу мне идет Никита. Его седые усы закручены вверх, и их острые концы пахнут каким-то кремом.
— Пожалуйте! — Он расставляет руки и принимает мою курточку. Я стучу пальцем в косяк проема, отделяющего прихожую от комнаты.
— Пожалуйста! — раздается картавый голос Аркадия Аркадьевича.
Я раздвигаю портьеру и вхожу. Навстречу мне, встав с дивана, поднимается Аркадий Аркадьевич, приветливо улыбаясь и протягивая руку.
— Давненько вы не навещали нас! А я слышал, вы в курсе дел всей нашей улицы…
— Так получилось.
— Правда ли, что у нас пойман дезертир? И правда ли, что он — сын той ужасной дамы?
— Да, он сын Нюрки.
— Прошу садиться.
— Спасибо.
Я сажусь на стул, стоящий у окна, и тут только вспоминаю про серебряные трубы. Смотрю на стену: между окон, сверкая боками, висит большая серебряная труба, обвитая георгиевской лентой с кистями, а чуть пониже — светлый маленький серебряный сигнальный рожок. Я не верю своим глазам, но трубы действительно стали светлыми!
Под ними висит карта, вырезанная из газеты: размеры территории, освобожденной Красной Армией от немецких оккупантов за период зимней кампании 1942/43 г.
— Что же вы замолчали? — интересуется Аркадий Аркадьевич.
— Не знаю… так просто.
— И вы видели его?
— Да… очень жалкий.
— Сукин сын! — четко произносит он. — Я вижу, вы его жалеете?
— Все это было так ужасно!
— Было бы более ужасно, если бы таких, как он, не преследовали!
— Почему?
— Потому что, если бы их было много, они преследовали бы тех, кто выполняет свой воинский долг.
— Разве так может быть?
Он пожимает плечами и, подойдя к окну, задирает голову вверх, глядя в колодец, куда выходит его окно.
— Никита! — зовет он. — Опять кто-то кинул нам под окно старый башмак!
«Потрясающие переходы!» — думаю я.
— Слушаюсь! — говорит Никита. — Прикажете убрать?
— Да, но не сейчас. — И, повернувшись опять ко мне, продолжает: — Моего лучшего друга… героя той войны… расстреляли дезертиры… — После продолжительного молчания он спрашивает: — Ну а как вы?
— Сейчас к нам приехал дядя. С фронта.
— Да-да! Слышал и поздравляю!
— Спасибо! Аркадий Аркадьевич?
— Что, голубчик?
— Скажите мне, кого вы считаете героем?
— Хм… Минуточку… А почему вы задали этот вопрос?
— Да так… Много всего случается и происходит кругом… И много героев, и говорится об этом много…
— Так-так… — Он проницательно смотрит на меня, потом отходит к полке и снимает с нее книгу в старинном переплете, на корешке которого видны наполовину стершиеся буквы. Он листает ее своими ловкими пальцами и, найдя какое-то место, читает резким картавым голосом:
«…Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны… Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».
— Лев Толстой, — заканчивает он. — «Севастополь в мае».
Он ставит книгу на место и садится за стол, а я замечаю, что стол накрыт только на двоих. Я вопросительно смотрю на Аркадия Аркадьевича. Он, наливая мне чай, говорит:
Читать дальше
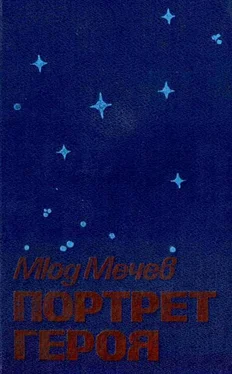
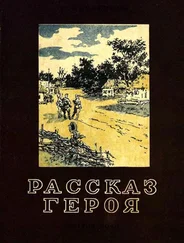

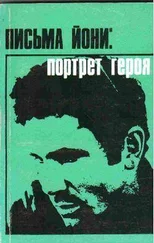


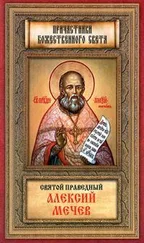

![Денис Куприянов - Дневник Аниме Героя [СИ]](/books/413521/denis-kupriyanov-dnevnik-anime-geroya-si-thumb.webp)


