— Ничего, ничего, — говорила она ему. — Все будет хорошо. Ты ни в чем не виноват. Надо всегда надеяться на хорошее…
Говоров отслонился от иллюминатора, приглушенный свет салона был ему неприятен, заставил сомкнуть веки. «Вот тогда все началось, — совершенно убежденно подумал он. — Она обо всем догадывалась еще тогда. И был голос…» Он был уверен, что и сейчас до него донесся голос, последний крик прощания.
Время все сметало, и вот уже там, в темноте, почти в мироздании, кружатся другой прекрасный южный город, решивший его судьбу, упрямо несущая старое высокопарное, смешное нынче имя гостиница, ресторан с маленькой, вызывающей жалость певичкой, кружится обманутая жизнью Вера, ничего не понявший, несчастный Вениамин… В этом коловращении одиноко стояла Ирина Михайловна, и так четкой белой фигуркой она стала уходить и уходить от него, уменьшаясь в ослепительный штришок, и Говоров мысленно пожелал ей доброй ночи.
Самолет начало резко кренить, так, что Говоров, с трудом преодолевая невидимую пружину, придвинулся к иллюминатору. Потом крыло ушло далеко вниз, чертя огромную параболу, и там, в каленом, чистом пространстве, средь желтоватой зерни городского зарева Говоров не то увидел, не то представил таинственный сгусток золотых куполов, рубиновых звезд и с каким-то освежающим ветром в душе понял, что он дома и что действительно все будет.
«Лесная», — прочитала она и, еще не видя самой улочки за мелким бросовым березняком опушки, к которой ее привела со станции узенькая асфальтовая тропа, поняла, что п р и ш л а. Внезапно ее изломал и опустошил беспредельный страх…
В ту самую минуту, как она после мучительных колебаний решилась на поездку в Москву, жившее в ней проклятье отпустило ее, это было неслыханной радостью, совершенно убедившей Надю в бесспорности предпринимаемого шага. С возбуждающим заговорщическим чувством, с большим тщанием она собралась и оделась в дорогу, и, когда, ощущая позабытый трепет, оглядела себя в зеркало, закипело в душе от перемены, происшедшей с ней, как с гадким утенком. В голове комкались смутные слухи о сердечных злоключениях Игоря, и с веселой почти девической мстительностью Надя ликовала над ним: она поедет!
Ее мать, аскетического склада женщина, угрюмо наблюдавшая за ней, произнесла с приобретенной в долгой борьбе с дочерью свинцовой властью, с очевидным намеком: «Смотри, Надежда…» И Надя вспыхнула оскорбленно, будто мать приписывала ей бог знает что…
Лифт поднял ее к квартире Говоровых, и она застыла перед дверью, одетая в легкий розовый плащ с белой нейлоновой косынкой, завязанной спереди на тонкой девичьей шее, легкая, чистая, уверенная, что неотразима, и сейчас Манечка, — она представляла ее совсем крохотной — кинется к ней, к ее чистоте, к непорочности, к кокетливо-дорогому импортному плащику, к ее безгрешным глазам, бедная, бездомная девочка, а вслед за ней Ирина Михайловна, к которой никогда не было у нее зла, упадет ей на грудь…
Она долго ждала у двери, но никто не открывал. Позвонила соседям. Ей сказали, что Говоровы на даче, объяснили, как их найти: метро до Филей, затем электричкой. Да тут совсем рядом. Душу светло опахнуло — «Зяблики».
Но что-то в ней затормозилось от первой неудачи, ощущение новизны, эффекта приглохло, она с досадой подумала, что снова надо искать. Но страха еще не было…
Страх копился все три долгих года, и она подспудно, но все сильнее чувствовала его по мере того, как выходила из трясины, — сама вспоминала о ней с омерзением. Это было поразительно: она очищалась — через унизительную муку лечебницы, через воцаренный матерью тюремный режим дома, куда она вернулась после суда, отнявшего у нее ребенка, через постылое одиночество, — она очищалась! — но чем дальше уходила от прошлого, уже совсем другая, тем беспощаднее и методичней давил Надю ее страх.
Однажды мгновенным, как искра, прозрением она осознала, что это сидит в ней материнская вина — за Манечку, за суд, на который она не пошла, не могла пойти, и который лишил ее дочери, за жестокий запрет Игоря видеться с Манечкой, — она никак не могла переступить этот запрет, даже когда обрела на это право. Так она и жила под страхом прошлого. Но вот подкатило к сердцу: ехать в Москву — и как рукой сняло.
В электричке она забилась в угол желтой деревянной скамьи, влилась в спинку, напряженно глядя в пыльное окно, не выпуская из рук яркой целлофановой сумки с ковбойской картинкой. Вагон был почти пуст, никто ей не мешал отдаться раздумьям, но на ум ничего не шло. Взгляд бесцельно встречал и провожал несущиеся мимо стандартные дома пригорода, вагоны и цистерны на веерной путанице рельсов, серые бетонные заборы, — все обрывалось на срезе окна.
Читать дальше
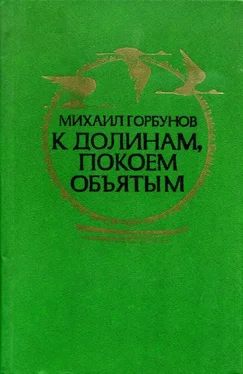


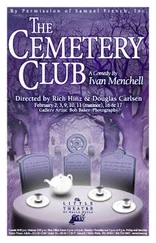
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





