— Ну что ты, что ты… Не надо! — Он чувствовал, что сам вот-вот расплачется, смешался окончательно. — Давай лучше говорить о чем-нибудь хорошем. Ну вот у тебя сегодня день рождения…
— День рождения… — отозвалась она, как ребенок, твердящий урок.
— И я сейчас пойду за цветами…
Она вскинулась, чуть не захлопав в ладошки:
— Ой! За цветами? И я с тобой!
— Э, нет! Что люди скажут? Сама себе пошла за цветами… Ты лучше сообрази здесь что-нибудь. — Он мигнул ей: — На двоих. У нас ведь есть все.
Она осторожно поглядела на него.
— Может, покушаем в буфете, горяченького… Кофе попьем… Завтра же нам идти в ресторан…
Еще вчера Говоров скрепя сердце согласился с таким предложением Веры — отметить День Победы в ресторане. Он ясно понял, что отказ жестоко обидел бы ее, что их с Ириной Михайловной общество — догадывался зачем — нужно было ей. Предстоящая миссия повергала его в уныние, сейчас он не хотел о ней думать, и легкое застолье по-походному в это первое утро в незнакомом городе должно было служить ему выстраданным возмещением того, что ждало его завтра, и он ни за что не уступил бы. Ирина Михайловна, впрочем, и не боролась, она сама желала так редко выпадавшего им уединения.
Он вышел на улицу. Ему сказали, что цветы можно купить недалеко, в скверике. Он не торопясь пошел в том направлении с томящим предчувствием какого-то открытия, — тогда, тридцать лет назад, было такое же солнечное утро, словно благословенная дань после изведших душу солдатам, изнуривших фронт денных и нощных мартовских дождей, непролазных черных дорог; голова у Говорова тупо гудела — сказывалась рваная бессонная ночь штурма. Во всяком случае, ему так хотелось думать — сказывалась ночь штурма, он пытался забыть плеснувший совсем рядом пламень взрыва — там, в Кучугуре, мгновенно упавшую тьму, она длилась совсем немного, несколько минут, за которые к нему успела подбежать Таня. Голова странно гудела у Говорова с той мгновенной смены слепого огня и кромешной тьмы, поташнивало, но ничто не могло оторвать его от взвода, — ни тогда, когда вернувшимся зрением он увидел своих солдат, ни в ночь штурма. Наутро город был взят. Толпы пленных — немцы в сером, румыны в яично-болотном, рваном, жалко обвисшем — жались к стенам домов, с трудом веря, что живы, что их уже не погонят под русский свинец, — кто же в то утро помышлял о сне и отдыхе!
Искореженным железобетоном зиял взорванный порт, омываемый неправдоподобно синим, как на рекламных открытках, морем. Улицы скрипели битым стеклом, кирпичной крошкой. Дышали гарью выбитые окна, пустые обугленно-красные коробки домов. Но было солнечно, тепло, центр города запрудили солдатские ватаги, будто собравшиеся на гулянье. Сейчас Говоров почему-то ничего не узнавал, хотя так же ярко светило солнце и было свежо, приподнято; близость завтрашнего Дня Победы, утренняя чистота, оживление рано проснувшихся улиц наполняли его полузабытым праздником, которые так редко выпадали на фронте.
Он уже дошел до скверика, где в самом деле увидел цепочку женщин с кострами цветов в эмалированных ведрах у ног. Вдруг острый холодок сжал ему затылок: в глубине короткого затененного переулка, ярко освещенное, стояло полукруглое, с портиком в колоннах и серебристой купольной крышей, показавшееся ему совсем небольшим, как дорогая игрушка, здание театра, — и Говоров все вспомнил. Да ведь к этому скверику они и вышли тогда в стихийно возникшей демонстрации — вся пехота полка, уже без шинелей, с автоматами на шеях, навстречу слепящему солнцу, а перед этим они обогнули театр, он был весь в осколочных оспинах, штукатурка неровными пластами обвалилась, видна была старая кирпичная кладка… В каждом городе есть своя главная достопримечательность, здесь ею был театр, сохранивший в линиях искалеченных стен барочное великолепие. Все уже знали, что немцы при отступлении заминировали его, но не успели взорвать, и тут поработали наши минеры, спасли театр, это сообщало ему беззащитную прелесть младенчества.
Шла рота Говорова, шел его взвод, рядом с ним шла Таня. Она тоже была без шинели, Говоров, кажется, никогда не видел ее такой: гимнастерка на ней сидела с девичьим шиком, кудряшки выбились из-под кубанки, круглое лицо успело побронзоветь, губы запеклись легкой корочкой, рыжевато дымились улыбкой скошенные на Говорова глаза. Она легко шагала, оставив в обозе измазанную черной землей трясинных дорог тяжелую солдатскую шинель, почти запрещенно мелькали круглые девичьи коленки…
Читать дальше
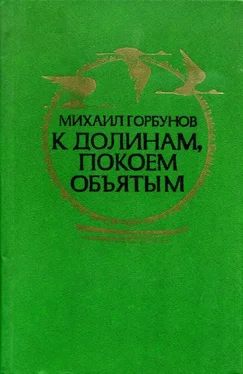


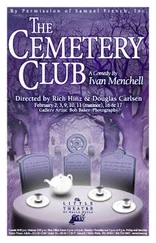
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





