Сейчас Любочка хлопотала вокруг матери, уничтожающе поглядывая на Татьяну Георгиевну с ее кружевным платочком, которых «теперь не производят», но в движениях дочери, в беспечно миловидном личике с капризной игрой в гнев было что-то ненастоящее, необязательное в недоброй сумеречной тишине больничной палаты. Любочка как бы старалась поскорее «замять это дело»: Татьяна Георгиевна что-то путала ей, и Говоров тоскливо вспомнил наконец, что Любочке нужно еще успеть на «всамделишную» встречу Нового года в заранее и продуманно сбитой компании. Он заметил, что жене сделалось неловко, вероятно, она тоже что-то поняла, и у нее самой набухли влагой истомленные глаза при виде «гордого» профиля матери: она уже жалела ее. Может быть, в ту минуту в ней щемяще зазвучало предчувствие разлада, который придет после нее…
— Я хочу подойти к окну, — глухо сказала она, и Говоров понял, что слова ее относятся к нему.
Он отодвинул от кровати столик, предназначенный для ее лекарств, — сейчас на нем неуместно большая, лишняя стояла бутылка шампанского, помог жене подняться, по осторожно-мелкому, кроличьему дыханию понял, что ей хочется и в то же время страшновато идти. Он повел ее на глазах примолкших Татьяны Георгиевны и Любочки, с болью чувствуя, как она угловато, неузнаваемо для нею сгорбилась, сжалась под халатом. У окна, приятно отдававшего снеговой прохладой, долго и молча стояли.
Противоположная часть переулка была занята стройкой. Огороженный грубым дощатым забором двор синел заваленными снегом штабелями бетонных панелей, старой скрюченной арматурой, железными бочками, глухой нерабочей пустотой. Но совсем рядом, на проспекте, уставленном гигантами из бетона и стекла, в который упирался переулок, гремела музыка, мелькали отраженные окнами разноцветные блики большого рекламного экрана. Так нереальна, так оторвана от всего на свете была сумеречная, с жалким скелетиком елки палата, неужели жизнь и останется там, в обрываемых ветром звуках музыки, в фосфорном пылании неона?
Жена обернулась от окна, сухим металлическим голосом сказала:
— Вы идите, что вам здесь делать…
Татьяна Георгиевна и Любочка вздохнули: одна оскорбленно, другая с заметным облегчением, но как бы вынужденным, стали складывать в сумки посуду.
Говоров с женой остались одни. Шампанское было убрано. Он навел возле кровати порядок, взбил подушки. Потек обычный у них вечер. Она полулежала на высоко поставленных к никелированной кроватной спинке подушках, и во мраке, отсеченном абажуром настольной лампы, была похожа на большую ночную птицу с воспаленно мерцающими глазами. Говорову, пристроившемуся со стулом в ногах у жены, было покойно от этого ее неусыпного взгляда, от тишины в душе, которая наступала, только когда они оставались вдвоем.
Тишина вселялась в него исподволь, безотчетно, но в этот вечер его внезапно задушило сознание, что собственно только здесь, у постели полуживой жены, по какому-то невероятному парадоксу, он находит успокоение, больше у него ничего нет. Он содрогнулся при воспоминании о жалких крупицах, составлявших его каждодневное существование. Поздним вечером в опостылевшем кабинете при потухшем экране телевизора, когда, разбредшись по комнатам, уснут дочь и теща, — бутылка вина, давно ставшая необходимой панацеей в конце долгого каторжного дня. Тяжелый туман пробуждения с мгновенно сминающей мозг явью, с застывшей в ранней утренней мгле окна, надоевшей до тошноты готикой старого дома на той стороне узкого переулка, с душераздирающим скрежетом лопат дворников, очищающих от снега тротуар, с исчезающими вон из квартиры шагами дочери и тещи, торопящихся — одна в институт, другая к справочному телефону какой-то там обслуживающей население фирмы, где, подозревал Говоров, Татьяна Георгиевна, при своей приличной пенсии, просто находила убежище от перешедших к ней забот по дому, к которым она не питала ни малейшей склонности, с невыносимым скулежом под дверью кабинета глупого лохматого чудовища по имени Мотя, требовавшего от хозяина исполнения своей обязанности — вести Мотю на утреннюю прогулку. Выводить Мотю должен был тоже он, Говоров, по установившимся в доме понятиям, человек, меньше других занятой. Говоров принимал все как есть, не желая того хаоса и разъединения, которого боялась его жена. Отгуляв с Мотей, позабыв о завтраке, он еще долго бил ноги в поисках то квашеной капусты, то обезжиренного кефира… Он чувствовал, что растворяется в бесконечной, опустошающей душу суете, и только по вечерам, когда, по большей части один, Говоров шел в больницу и они с женой оставались в тишине палаты, нарушаемой лишь появлением сестер, — по вечерам, в обществе смертельно больной жены, он успокаивался и в нем как бы восстанавливался человек.
Читать дальше
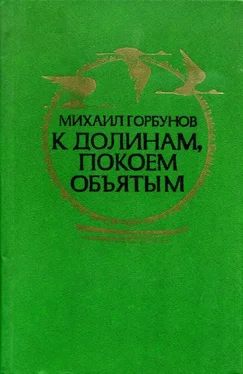


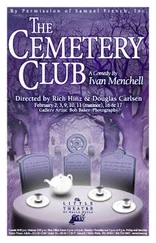
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





