Президент представил себе строгое породистое лицо любимца самого Эйнштейна, венгерского эмигранта, чем-то напоминающее лицо Рузвельта, и холодно про себя рассмеялся над ними обоими: переданный покойному президенту — через его жену Элеонору, «первую леди мира» — меморандум, утверждавший, что взрыв бомбы приведет к атомному соперничеству, так и остался нераспечатанным на столе Рузвельта — тот предпочел умереть… Но кажется лишь для того, чтобы возложить бремя ответственности на своего преемника.
Да что Сциллард. Дрогнул сам Оппенгеймер. Этот почти шекспировский вопрос — бомбить или не бомбить — прошел множество Сцилл и Харибд, в конце концов хорошо, когда есть такие парни — Стимсон, Гровс, Арнольд и еще Бирнс, доказавший, хотя бы в истории со Сциллардом, которого он взял на себя и «погасил», что достоин портфеля государственного секретаря, и ставший им. Потом спешно образованный Временный комитет, который возглавил Стимсон и который должен был поставить последнюю точку, а меж тем сразу же подпавший под борьбу самых противоречивых мнений… Глупцы, завязшие в тине сиюминутных проблем, не видящие перспективы, от которой захватывает дух. И там, в комитете, всю погоду сделал личный представитель президента молодчина Бирнс, это по его «а» комитет сказал «б»: бомбить.
К счастью, как обещали Гровс, Арнольд, Стимсон, с самым незначительным отклонением от момента «ноль», вызванным непогодой, грянул взрыв «толстяка» в Аламогордо…
Он так ждал его, он делал все, чтобы оттянуть конференцию, пока не взорвется бомба, чтобы и говорить в Потсдаме с высоты тридцатитрехметровой стальной башни, могшей стать эмблемой Невадской пустыни, но пришлось пойти на компромисс, и всю жизнь он будет помнить, как уже в Потсдаме в покои к нему ворвался Стимсон, потрясая какими-то бумагами — это оказалась доставленная спецсвязью докладная записка генерала Гровса своему министру. «Почему не мне лично?» — с некоторой долей ревности подумал президент, но понял, что это всего лишь субординация, и приник к строкам довольно обширного послания. Его поразили подробности, которые приводил Гровс — и о вспышке, в несколько раз превзошедшей яркость солнца, и об огненном шаре, принявшем грибообразную форму, и об образовании кратера, и об испарившейся самой стальной башне…
Он немного позабавил его, этот верзила Гровс, исхитрившийся сказать и о себе, как бы в третьем лице, в приведенных впечатлениях генерала Фарелла, находившегося в блиндаже пункта управления, — о том, что особенно напряженные два часа перед испытанием генерал Гровс находился с Оппенгеймером, прогуливаясь рядом с ним и успокаивая перенапряженные нервы ученого — каждый раз, когда Оппенгеймер был готов выйти из себя по поводу какой-либо неполадки, Гровс уводил его в сторону и, гуляя с ним под дождем, убеждал, что все будет в порядке.
«Впечатлительность» бригадного генерала заставила его живописать, президент так ясно представлял себе: стоит, вцепившись в стойку, высокий, тонкий, неимоверно напряженный Оппенгеймер и вслед за выкриком диктора «Взрыв!» все вокруг заливает светом ослепительная вспышка, и землю потрясает глухой рев, и что-то молитвенно шепчет Оппенгеймер…
Описать красоту сцены взрыва, заключал Фарелл, под силу великим поэтам, которые, увы, не видели ничего подобного.
Сам Гровс был построже, и из его записки две фразы — в начале и в конце — легли в сознание президента резкими зарубками: «Успех испытания превзошел самые оптимистические прогнозы» и «…Только проверка бомбы в боевых условиях может решить успех войны с Японией».
Черчилль в Потсдаме был в курсе всего происходившего, знал о Левиафане, исключая, может быть, невинную шутку с названием бомбы, данным ей в честь неумеренно располневшего премьера Великобритании и друга Америки. Он тоже ждал взрыва, и вокруг бомбы накрутилось, переплелось сонмище политических страстей, и колоссальная, нестерпимой магниевой белизны вспышка высветила не только на десятки миль в окружности каменистую пустыню, но и самые тайные дипломатические закоулки, и Трумэн вдруг почувствовал, как когда-то, неодолимое томление власти — и над Сталиным с его бычьей логикой переустройства мира, и над Черчиллем с его тоской по лопнувшей идее захвата Балкан, которую тот вынашивал много лет, и над императором Хирохито, предпринимающим судорожные попытки к спасению.
Сквозь сшибку роившихся в его мозгу проблем с щекочущей настойчивостью пробивалась, вызывая странную боязнь, мысль о России, готовой, как было обусловлено еще в Ялте, к войне и сосредоточившей за Хинганом, в Приморье мощную группировку войск для удара по предсердью Японии… Теперь он не хотел этого, хотя и не мог высказаться открыто, Россия, в случае своей победы, как бы снимала с него ореол величия, и он снова с досадой вспомнил о Рузвельте, который со своей излишней приверженностью к миру в сущности предал в Ялте национальные интересы Америки, не только пойдя на поводу у русских с их требованиями демократизации Европы, но и заранее отдав им Южный Сахалин и Курильские острова! Но что можно было требовать от больного, усталого человека, потерявшего за слишком затянувшееся президентство всякую физическую и умственную энергию.
Читать дальше
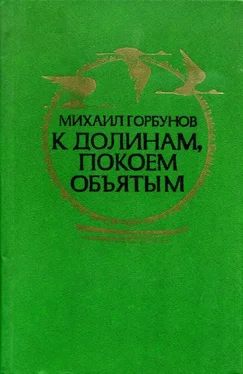


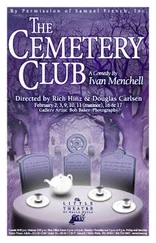
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





