Он вышел из хаты, глянул на дорогу от Еркиного креста до самого горизонта и несколько минут простоял в глубокой задумчивости.
На обратном пути зашел к жене Клима Петрушева. Встретила она его со слезами и обидой.
— Знаю, слыхала, что приехал, а глаз не кажешь.., Ну, спасибо,- Устин. Зиновей был давеча, о тебе спрашивал. — Вытерла фартуком глаза и окрепшим голосом спросила: *— Что ж, поздравить? .. Ну, дай-то бог! А мне... ох, как тяжко...
— Да чего говорить, Люба. Али я не знаю. Ну, что теперь поделаешь ?
— Вот и беда-то, что ничего не сделаешь. Молочка выпьешь?
— Вот это другое дело.
Он глядел на ее худые руки, когда она наливала в кружку молока, посадил рядом с собой.
— А хата твоя скоро совсем завалится, — заметил он сокрушенно.
Женщина с отчаянием махнула рукой.
— Будь, что будет. Придавит, уж один конец.
— Нет, ты погоди, — остановил ее Устин. — Ты знаешь мою хату? Ведь она, поди, крепче твоей?
— Намного. Ее только соломой накрыть да рамы новые повязать.
— Ну. так по рукам, что ли?
— Это чего?
— Летом подправим — и валяй в мою хату.
— Да ты что, очумел, Устин? Ай мне последнюю коровенку со двора гнать. Где ж я денег напасусь?
— По рукам, говорю... Отдаю тебе хату. Поняла? Живи с ребятишками, а я кой-когда зайду с Наташей. Ведь хата мне как память дорога, а денег твоих не надо. — Потом, помолчав, добавил: — Твой Клим был моим боевым товарищем.
— Уж и не знаю, либо ты смеешься, либо правду говоришь, — сказала она с тоской.
— Что ж я, маленький?
Любовь вдруг неожиданно припала к его рукам и беззвучно заплакала.
От Петрушевой Устин заглянул к старику Федоту Тычкову. Тот, прежде чем слезть с печки, долго ворочался, кряхтел, надевал валенки, затем осторожно спустился на пол и, подпоясывая шнурком широкие штаны, подошел к Устину.
— Не узнаешь? — засмеялся Устин.
Старик, прищурив глаза, вгляделся в Устина и, вдруг вскрикнул «Хрущев!», вцепился сухими, но сильными пальцами в Устиновы плечи.
— Ну, покажись, покажись, живая душа. Отвоевался? .. Ну и ладно. Садись! Сколько ж годков я тебя, милок, не видел?!
Старик оживился и так резво стал двигаться по горнице, что прежнюю его медлительность можно было бы принять за притворство.
— Старуха моя ушла, так я зараз сам сбегаю нз погребицу, квашенки принесу.
— Да ты не суетись, дядя Федот. Я сыт по горло.
Старик, не слущая Устина, накинул полушубок н
исчез за дверью. Через несколько минут он принес кувшин с квашенкой, достал из печи картофель и остановился в нерешительности перед Устином, почесывая за ухом.
— Ты чего, дядя Федот?
— Ах, едят тя мухи с комарами. Устин, есть у меня тут косушечка, только ты, поди, пить не станешь? Де-натурка. Аль будешь?.. Ни-ни! Ты не подумай какая, — запротестовал он, видя, как Устин поморщился. — Через уголек цеженная, со стручком. Огонь! Сам не пью, от хвори держу, а в давности займался, ей-право, — засмеялся старик и опять, не слушая Устина, проворно залез на печь и вытащил бутылочку, бережно завернутую в тряпицу.
Старик разошелся и начал сыпать пословицами и прибаутками, да так ладно, что сопротивляющийся Устин не устоял и согласился попробовать винцо, которое, по словам Федота, «красит сердце и лицо».
— В каких местах воевал, что видал, что слыхал? — придвигаясь к Устину, расспрашивал Федот. — Я ведь тоже, считай, поболе года в председателях сельского совета, ходил, и по нонешний день ходил бы, да дюже ослаб, остарел. Семен кабыть нехудо справляется. Довольны мы им. Ну, а какой теперь новый поворот в жизни будет? — спросил он и хитро улыбнулся.
— Власть наша. А поворот в жизни сами должны делать, — ответил Устин.
— Ну, а как же это, за что приниматься? Семен сам руками разводит.
— Обдумать надо, с народом поговорить. Одна голова хороша, а две лучше.
— Это правильно. А все же путаемся мы, говорим по-разному. Каждый ждет весны и нуждается. Тягло у кого слабое, а у кого совсем нету. Вот тут-то и решай. Люди отощали, скот с ног валится.
— И про то мне известно. У соседей не краше. Ведь вот воевали мы не порознь, а всем народом, и одолели беляков. И обратно же надо всем народом наваливаться. Вот как я думаю.
Читать дальше
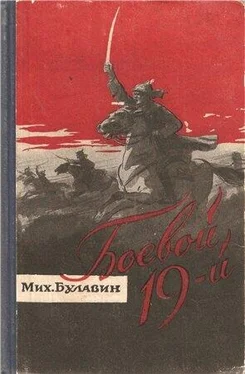

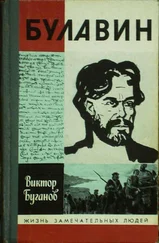

![Иван Булавин - Перекрёсток [СИ]](/books/395743/ivan-bulavin-perekrestok-si-thumb.webp)






