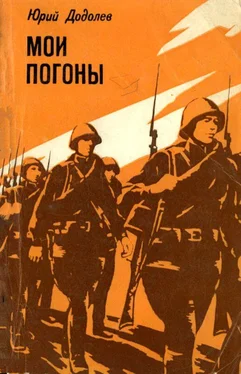— Как же так? — спросил лейтенант, грузно опустившись в кресло, стоявшее во главе огромного стола, накрытого красной материей. — Хотел в комсомол вступить, а угодил в карикатуру?
— Это не карикатура, — возразил я. — Это дружеский шарж.
— Какой такой шарж? Рано тебе в комсомол вступать — вот что. Обмозгуй это на досуге. А теперь ступай.
Три наряда доконали меня — я стал спать даже в строю. На четвертый день, когда до отбоя осталось минут двадцать, подумал: «Ну и высплюсь же сегодня!»
Выспаться не удалось. Вместо команды «отбой», прозвучало:
— Первая рота, в баню!
Раз в десять дней и каждый раз ночью — днем мылось гражданское население — нас гоняли в баню, построенную еще до революции на окраине города купцом-филантропом — в ту баню, в которой я продал гражданскую одежду. Первое время старуха банщица встречала меня льстивой улыбочкой, спрашивала — нет ли еще чего? Убедившись, что у меня ничего нет, она потеряла ко мне интерес.
Баня была длинной, как амбар, с маленькими окнами. Вместо деревянных лавок в мыльном отделении стояли каменные лежаки с выбоинами, шершавые и холодные. От одного прикосновения к ним кожа покрывалась пупырышками.
Перед входом в мыльное отделение старшина раздавал мыло — полужидкое, коричневое, напоминавшее остывший столярный клей. Казанцев черпал мыло из бачка столовой ложкой, стряхивал в подставленные пригоршни.
«Был бы это джем», — каждый раз думал я и нюхал мыло. Пахло оно керосином, пены почти не давало, но грязь сдирало, как рубанок стружку.
Войдя в мыльное отделение, я разомлел и решил покемарить хоть десять минут.
Колька намазался мылом, присобачил к бедру мочалку, стал прыгать, изображая дикаря. Ивлев тоже намазался мылом, тоже привязал к бедру мочалку и тоже стал прыгать.
Это понравилось всем, и вскоре вся наша рота превратилась в сборище дикарей, исполнявших ритуальный танец. Ребята резвились вовсю: им никто не мешал — старшина и сержанты с нами не мылись. Казанцев обычно сидел в предбаннике и изучал очередную инструкцию, отпечатанную на машинке, а сержанты, сойдясь в кружок, обсуждали свои сержантские дела.
Я мыться не собирался. Ошпарив лежак кипятком, растянулся на нем, расслабив мускулы. Покемарить не дали — самым бесцеремонным образом меня согнали с лежака: их не хватало, кое-кому приходилось мыться на полу, поставив перед собой шайку. Я выругался, побрел искать укромный уголок. Обнаружил подходящее место в проходе — он вел в парильное отделение. Парилка работала только днем, сейчас из нее струился теплый воздух. Я забрался в какую-то нишу и тотчас уснул…
— Саблин? — услышал я сквозь сон. Понял: меня ищут, но разомкнуть веки не смог.
— Вот он! — Кто-то дернул меня за ногу.
Я вылез, уставился на Ярчука.
— Шевелись, Саблин, шевелись! — взволнованно проговорил он. — Старшина психует — житья нет.
Оказалось, все вымылись, оделись, а меня нет. Казанцев зловеще произнес:
— Ну-у…
Все сразу поняли, что обозначает это «ну-у».
— Может, Саблин к бабам махнул? — предположил Паркин.
— Соображай! — Казанцев показал на мое барахло — оно сиротливо лежало на отполированной голыми задницами скамье.
Когда я вошел, старшина крикнул:
— В строй!
Я потянул руку к одежде.
— Как есть! — громыхнул Казанцев.
Рота шевельнулась и снова замерла.
«Голым так голым», — подумал я и встал в строй.
Прозвучала команда «смирно», и я получил еще три наряда.
От обиды чуть не заревел. Когда мы пришли «домой», старшина подозвал меня и сказал, глядя в сторону:
— К исполнению приступишь через неделю, когда отоспишься. Поня́л?
Незаметно наступила весна. По ночам подмораживало, днем с длинных и ломких сосулек стекали капли. Сияло солнце, наполняя сердце радостью. Эхо победных салютов докатилось до нашего полка: солдат стали лучше кормить, да и Журба подобрел — наказывал меньше, можно было отдохнуть от внеочередных нарядов.
Лед на Волге посинел. Река вздулась — вот-вот выплеснется.
Весной уехал на фронт Петров. Я запомнил тот день — в тот день вскрылась Волга.
Колька был первой ласточкой. Он настолько освоил радиодело, что стал принимать сто тридцать знаков в минуту — больше, чем Журба.
— Превосходный слухач! — сказал о нем сержант, когда мы прощались с Колькой.
Петров пожимал нам руки, обещал писать. Я не очень верил, что он напишет. Все обещают писать, когда расстаются. А потом: новая обстановка, новые друзья — и…
Читать дальше