А Волховский фронт, поддерживая наступление Красной Армии под Москвой, рвался вперед… И чья-то нежная, по-матерински чуткая рука торопливо перевязывала Петру тяжелые раны…
Все испытал за войну Чеботарев, все перенес, что отпускается судьбой солдату. Четырежды был он ранен — четырежды возвращался в строй. На узкой полоске сталинградской земли с ожесточением отбивался бутылками с горючей смесью и связками гранат от немецких танков. Под Курском с противотанковым ружьем стоял насмерть, преградив путь хваленым «тиграм», «пантерам» и «фердинандам»…
И всю войну, сколько ни был Чеботарев на передовой, помнил он себя лишь в одном положении: лицом на запад. Отступал ли, огрызаясь, или оборонялся, наступал — глаза всегда смотрели туда, откуда пришло на родную землю горе. И казалось, после всех невзгод, камнем ложившихся на душу должно было одеревенеть сердце Петра. Но его сердце — сердце русского солдата, отходчивого по натуре, — оставалось ч е л о в е ч н ы м. Утраты жили в нем, Петре, как-то сами по себе, не мешая главному. Крепла никогда не угасавшая вера в ПОБЕДУ. И не злобилось, а добрело его сердце по мере того, как фронт уходил на запад. Поэтому, когда ступили мы на немецкую землю, Чеботарев уже забыл о мести и шел по ней не мстителем, а как освободитель. Душа была наполнена радостным ощущением стремительно приближающейся победы над гитлеризмом, и в то же время боль, горечь охватывали его при виде голодных, перепуганных жителей. На бросавших ему к ногам оружие немцев он глядел с превосходством победителя, великодушно дарующего побежденному жизнь. Они с недоверием принимали эту милость, потому что сами-то умели лишь разрушать, убивать, грабить — такими их сделал нацизм, — и только в этой роли и представлялся им победитель… Но Чеботареву некогда было им объяснять такие «тонкости» — шли на штурм последнего оплота гитлеровских головорезов.
— На Берлин!!
Тут-то — еще до позорной капитуляции врага — с Чеботаревым и случилось непоправимое.
Их рота — Петр был уже помощником командира взвода — подбиралась через завалы из кирпича и скрученной арматуры к рейхстагу. Был виден его еле различаемый в насыщенном дымом и пылью воздухе купол — цель, к которой Чеботарев шел четыре суровых военных года.
После жаркого боя с эсэсовцами они заняли какое-то полуразрушенное здание. Подъехала, прячась за уцелевшую часть стены, полевая кухня. С котелком дымящейся каши Чеботарев возвращался от нее во взвод. В стороне, между развалинами, увидел он мальчика-немца. Голодными глазенками малец жадно смотрел на солдатский котелок. «Бедняжка», — вздохнул Чеботарев и представил, каким бы был теперь их с Валей ребенок. Представил и, свернув, подошел к мальчонке. Тот испугался, но не убежал.
Петр протянул ему, достав из-за голенища, ложку.
— На, ешь, — ласково сказал он и похлопал его по худенькой спинке: — Мать-то где? Муттер есть у тебя?
Мальчик был годков шести и, видно, смышленый. Обрадовавшись доброте дяди, он улыбнулся было, и вдруг тут же губенки его задрожали, а из глаз хлынули слезы. Показывая грязной ручонкой, державшей ложку, на развалины, ребенок всхлипывал и что-то говорил на своем, непонятном Петру языке. Чеботарев тяжело вздохнул: понял, что мать его погибла.
— Ешь… Ты ешь, — не зная, что сказать, произнес Петр. — Ешь, а потом… — И увидав его драные коленки коротких штанишек: — Поешь, и к нам пошли. Пойдем?
Грустными глазами уставился на взлохмаченную головку мальчугана Петр. Представил, сколько осталось горя всюду, где прошла страшная, человеконенавистническая орда фашизма.
Мальчик ел жадно. Глазенки его, уже доверчивые и ласковые, то и дело останавливались на увешанной орденами и медалями могучей груди Чеботарева. Наконец он спросил, остановив у рта ложку, полную каши, о чем-то. С груди не спускал горячего взгляда. И Петр подумал, что ребенок хочет знать, что такое у него на груди.
— Награды это, — погладив мальчика по головке, сказал Петр. — Награды! — И, улыбнувшись, добавил: — Это мой путь… к тебе… чтобы спасти тебя.
Мальчик не понял, но остался вполне доволен ответом. А Петр, по-отцовски уже жалея его, подумал: «Везде они, мальчишки, такие. Хоть у нас, в России, хоть здесь», — и вдруг решил не оставлять его тут. Пропадет.
Опорожнив с мальчиком котелок, Петр поднялся.
— Давай-ка сходим еще за кашей, — улыбаясь и показывая ребенку пустой котелок, он взял его — угловатого и истощенного, с синеватой тонкой кожей — на руки. — Не оставаться же мне голодным! Видишь, я не наелся.
Читать дальше
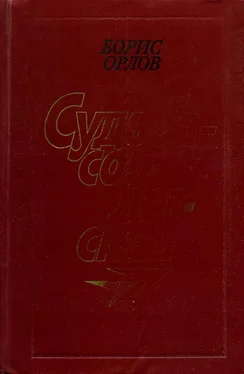










![Борис Орлов - Святой Грааль [СИ]](/books/410423/boris-orlov-svyatoj-graal-si-thumb.webp)