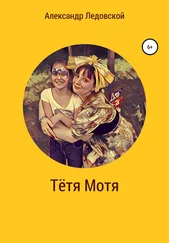— У попа была собака, оба умерли от рака, — тыча стволом, посчитала Мотя. Ствол остановился на Нюре.
— Холат! — сказала Нюра, и пнула дверь ногой, влетая в проем сверкающим вихрем, — Покажитесь, дети нежити! я — голос прощения, что уничтожит ваше тщетное бытие!
Мотя указала стволам цели, и два Первосвидетеля рухнули, заливая кровью пол.
Следом, вращая багром, как содэгарами, появился Кока.
— Каждый день, проснувшись, — шептал Кока сквозь гудение багра, протыкая грудь очередного павлика, или подсекая подвернувшуюся вражескую ногу, — говори себе: сегодня я столкнусь с человеческой нетерпимостью, неблагодарностью, нахальством, предательством, недоброжелательностью и эгоизмом. Их корень — неспособность людей различать добро и зло. Но что до меня — я ведь уже понял, что хорошо, и что плохо. И осознал природу заблудших людей.
— Холат! — весело орала Нюра, проносясь по залу смертоносной бурей, то там, то сям взлетая над черно–красной толпой. Гремели выстрелы, слышалось урчание багра и вопли смертельно раненых.
— Они — мои братья не в физическом смысле, но они тоже наделены разумом и несут в себе частичку божественного замысла, — продолжал Кока. — Поэтому ничего из их слов и действий не может причинить мне вред, ничто не способно запятнать меня. Я не могу злиться на братьев или чураться их, ведь мы с ними рождены для общего дела, как две руки, две ноги, два глаза или челюсти, верхняя и нижняя. Когда две руки мешают друг другу — это нарушение законов природы. А что такое раздражение, как не форма такой помехи?
— Читай им, Мотя! — закричала Нюра, пробиваясь сквозь разрубаемые тела к Ятыргину.
Мотя опустилась на колено, заряжая наганы, и начала: «На это он отвечал мне: пойди, спроси беременную женщину, могут ли, по исполнении девятимесячного срока, ложесна ее удержать в себе плод? Я сказал: не могут. Тогда он сказал мне: подобны ложеснам и обиталища душ в преисподней…»
— Безумие висит на сердцы юнаго: жезл же и наказание далече от него, — поддержал Кока, раскидывая багром павликов, пытающихся схватить Мотю.
Мотя зарядила пистолеты, и пули снова засвистели по залу.
— Отдай мое стальное сердце, Ятыргин! — вопила Нюра, заливая кровью зал.
Скоро все было кончено.
— И сразу же в тихое утро осеннее,
В восемь часов в воскресение,
Был приговор приведён в исполнение, — сказала Нюра, вытирая свои ножи от крови.
Теперь для получения Стального сердца нужна была шихта. Мотя, Нюра и Кока сложили трупы павликов в вагончики–мульды, а оставшиеся в живых принесли из города части Сталина: металлизированный кусочек мозга из 1–го квартала Соцгорода Эрнста Мая; затвердевшую кожу от его сапог с улицы Строителей, из 14–го квартала, построенного пленными немцами; губку легкого из Красной Башкирии; схватившиеся цементом крошки табака из бункеров на Ленинградской; дым трубки с аглофабрики; пыль сюртука из копрового цеха; мумию левой руки с горы Магнитной, к которой примагнитилось войско хана Батыя, и уйти смогло, лишь сбросив латы; блеск погон с Солнечной Гильотины Великого Полдня на углу Завенягина и Доменщиков; гнев из церкви Николая Чудотворца на Чкалова; слезы из водохранилища и коленную чашечку с южного моста — все это было сложено вместе с красногалстучными трупами. Туда же отправилось сердце Авраамия Завенягина.
Один из павликов забрался в мульдозавалочную машину, и отправил шихту в мартеновскую печь. Когда сталь для сердца была готова, и ее слили в черное графитовое сердце–изложницу, вырезанную Верой Мухиной и закопанную в призрачном оленьем парке Завенягина.
Кока ударил кувалдой по изложнице — черное сердце треснуло, и из него выпал большой кусок багрового шлака. Нюра вздохнула разочарованно, и Кока ударил кувалдой по шлаку, тот раскрошился, и на пол упала, как показалось Моте, капля ртути — это было маленькое, с детский кулачок, стальное сердце — оно билось. Мотя подобрала его и положила в шкатулку, которую ей протянула Нюра.
— Ну вот, первое сердце, — сказала Мотя.
— И когда легла дубрава
На конце глухом села,
Мы сказали: «Небу слава!» —
И сожгли своих тела,
— поправил очки Кока.
Помолчали. Уцелевшие павлики жались у стены цеха. Кельвин терся о ноги Нюры.
— Прощай, Мотя, — вдруг сказала Нюра. — И ты прощай, Смирнов. Я вас люблю, берегите себя. Простите меня, но я остаюсь здесь — Огненным богом марранов, Хозяйкой Медной горы, Феей Убивающего домика и всем таким прочим.
Читать дальше