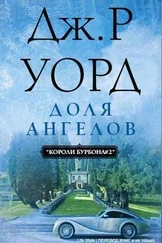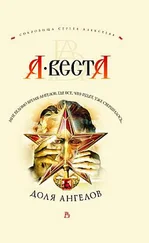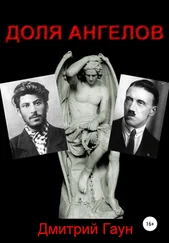- Ой ты гой еси, удалой молодец Петр сын Петров! Да не ездил бы ты на ту на рыбалку окаянную! Я ль тебе не жена-красавица? А коль не поедешь, обещаю я тебе утех сексуальных до самого утра, еще и на день останется! Даже и полюбовницу твою зазову, вдвоем ублажим тебя по-царски мы!
Суров ликом остался Петр Петров Лузгин. Не послушал он молодую жену, молча лег на диванчике в комнате. Обиделась жена, повязала платком русы косы, да ушла к маме.
Тревожно почивал Петр Петрович, думы всякие думались. А вот уже и будильник трезвон поднял. Поднялся на ноженьки Петр Лузгин, надел одежду крепкотканую, сапоги цельнокроены, в руки ящик взял железом окованный. Только на площадку шагнул - глядь, а там уж сосед дожидается, старый верный друг Михайло Терентьев.
- Не добро ты задумал, Петр Петрович, друг мой сердечный! - говорит Михайло. - Не нужна тебе рыбалка та, дело темное да богомерзкое. А пойдем-ка мы во мои хоромы на шестой этаж! Там жена моя Татьяна нам в горнице уж и стол накрыла. Ведь суббота нынче, светлый божий день. И зелено вино во чарочках плещется, хрустальные брызги каплют. И гусь-лебедь жареный в печи томится, и пироги да булки пышные, с пылу с жару.
Но суров был Петр Петров Лузгин. Не поддался он на льстивы речи, что Михайло ему говорил. Только плечом крутым повел, да спускаться стал по лестнице. Обиделся тут Михайло Терентьев, закипела злоба, занялось ретивое сердце.
- Не друг ты мне боле, - говорит он вослед, - а ворог лютый, коль от угощенья моего отказался, бела хлеба со мной порушить не захотел. Вострый нож это мне, да обида злая.
Но молчал Петр сын Петров, и не оглядывался.
А на подворье только-только заря занимается. Садится Петр Лузгин в свою самобеглую карету «Ока», а тут, глядь, из магазина мужики идут, Василий да Иван, а с ними слесарь Никодим сын Артамонов. Увидали они Петра, и давай его уговаривать.
- Ох ты гой еси, Петр сын Петров! Аль не любо тебе с нами во дворе сидеть, да в домино играть? Не гневи ты Господа, брось думу свою окаянную. И давай с тобою мы «козла» забьем, партий десять, ну а то и все за двадцать! Вот и пиво разливное в банках плещется, и вобла вялена свежайшая, в газетку «Красная звезда» завернута.
Заскрипел зубами Петр Лузгин сын Петров. Белою рукой дверцу кареты самобеглой захлопнул, ногой в сапоге цельнокроеном на педаль нажал, по газам ударивши. Взвилась «Ока» выше леса стоячего, ниже облака ходячего. Страшно крикнули ему вослед мужики:
- Да будь же ты неладен, змей подколодный! Пропади ты пропадом! Коли дружбу нашу верную да пир горою променял на воду стылую и рыбу скользкую!
Гикнули, свистнули, да и пропали, только пыль в заднем стекле кареты взметнулася.
Так и одолел Петр Петров Лузгин все искушения сладкоречивые, и добрался до потаенного места не бережку речном. И сидел с удочкой три дня и три ночи. Но поймал только окушка заморенного, да пескаря худосочного. Так ни с чем домой и поехал.
Потому что идиотом был Петр Лузгин, идиотом и остался.
Конченым. Стопроцентным.
Соглашаться надо было. Глядишь и пива бы попил, и в домино сыграл, да еще и жена с любовницей.
Нет, точно идиот.
Когда в декабре Платон Федорович Савин ходил на шатучих зомби, провожать его собиралась вся деревня. Народ толпился у околицы и, цокая языками, глядел, как тяжело нагруженный охотник, медленно ступая, уходит в глубь чащобы. На самой опушке леса Платон Федорович обязательно останавливался, не торопясь доставал из кармана ватника вышитый кисет, подаренный покойной женой и принимался скручивать «козью ногу в три колена».
В это время от толпы сельчан обязательно отделялась какая-нибудь баба с туесом, полным теплого молока, густо парившего на морозе. Она подносила его Платону Федоровичу, кланялась и говорила: «На-ко, испей!» Охотник Савин не отказывался, испивал до дна, крякнув, утирал усы и бороду и окончательно уходил в лес.
Все расходились, зная, что теперь неделю или две ничего особенного не произойдет. Если кто-нибудь по незнанию кивал на закрытые ставни савинского пятистенка и спрашивал - мол, где Платон Федорыч? - ему говорили: «Ушел по кости». При этом все понимающе качали головами.
Дней через пять в лесу, до этого глухом и вымершем, начинался треск и шум, обязательно в полночь потемнее. Вокруг деревни было полно старых погостов, сызмальства даже дети кормились тем, что выколачивали из древних домовин погребальные украшения да мелкие серебряные монеты-ногаты. Кого и когда на этих погостах упокоили - не ведал даже дедко Трофим, имевший от роду лет едва ли не столько, сколько древний деревенский дуб в три обхвата, рядом с которым был колодец. «Всегда так было», - отмахивался дедко, голыми деснами жамкая корку хлеба, размоченную в молоке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу