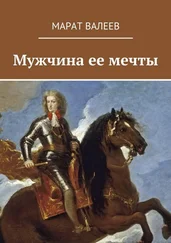С тех пор, как нарисовался мистер Холлидей, как официозно, хоть и редко, обращаюсь к нему я, или Дэвид, как мурлыкает мама, она, и так не будучи особенно логичной, вконец лишилась здравомыслия. Порхает в фантазиях, капризничает, как маленькая девочка, обещает: «Теперь мы заживём семьёй», – они с её принцем на белом "Ламборджини", я и его пафосный сынок Энтони. Никогда его не видел. Уверен, что сынок пафосный. Одно имя чего стоит.
Шуршание колёс. Монотонное бурчание мотора. Негромкие звуки радио из динамика: стрекотание популярной певички, страдающей от неразделённых чувств. Сухие пейзажи. Оскал потрескавшейся земли. Облупленные закутки автозаправок. Белозубые улыбки облаков, взирающих с лазурной вышины.
Глазение по сторонам утомляет. Я, и сам того не замечая, падаю в тёмный, заковыристый сон – бессмысленный и бессюжетный. Когда размыкаю веки, отмаргивая мутноту влипших линз, вечер дожирает тёплые дневные краски. Неужели приехали? Неужели мы где-то?
Мать щебечет по телефону, выруливая на асфальтированную стоянку перед особняком. Эмалевого цвета фасад – в приглушённо-жёлтом тумане ламп. С одной стороны стена выдаётся круглой пристройкой. С другой стороны – вместительный гараж, четыре машины спокойно встанут. Небо, гладкое, синее, почти лежит на волнистой крыше.
Этот день – пустой, как бутылка, из которой джин выхлестал спиртное.
Этот день – последний отголосок прошлого, где мы были только вдвоём. Ютились в многоэтажке, перебиваясь с её зарплат на мои подработки в кафе. Разговаривали мало. Зато поддерживали друг друга. И в горе, и в радости.
Теперь перед нами простираются нехиленькие перспективы. Из застеклённой двустворчатой двери выплывает дядя-благодетель. Убирает в подстёгнутый к ремню чехол пластинку айфона. Высокий, лощёный, в джинсах и рубашке. Мы выходим. Мама, без предисловий, бросается его обнимать. Я тактично молчу.
Перетащив наши скромные пожитки внутрь, в яму дома, проведя краткую, но содержательную экскурсию для новоприбывших, он намерился уединиться с без-пяти-минут-женой, ласково приобняв за талию: увлекает кое-что показать. «Мы одурели от дороги, Дэвид. Пусти её в ванную и оставь там одну», – говорю ему про себя. Естественно, без толку. Он не телепат.
Не испытываю желания соседствовать с их голосами. Ретируюсь через заднее крыльцо. Присаживаюсь на мраморный край бассейна. Тот наполнен красивой бирюзовой водой, мерцающей от внутренних светильников.
Океан – отдалённая полоска горизонта, его видно с террасы, он там, за садом. Мы в пригороде, под Сан-Франциско. Не похоже на Нью-Джерси: курорт рядом с городом.
Фиолетовые глазки цветов. Аккуратно подстриженные кустарники. Мощёные дорожки. Как на картинке в глянцевом журнале, из тех, с идеями идеального дома. Сад, обширный, зовёт навстречу экзотике. Вытащив из кармана пачку "Кента" и зажигалку, закуриваю.
Раньше я возвращался после нервного дня. Ложился с книгой. Вместо уроков – древние культуры, дальние страны. Уроки? Только те, что увлекут, как страны и культуры. Уроки в отложку. Уроки копятся. Всё в последний момент. Я возвращался откуда-то, зная, зачем и куда иду.
Необходимость работать исчезла, и я упал туда, куда падали наперечёт все думающие люди. В пустоту без смысла. Читай, сколько хочешь: не хочешь. Живи, сколько угодно: не угодно.
Темноту раздирает голубоватый росчерк дыма.
Буханье музыки я слышу издали. Отрываю зад от плитки, выяснить, какой мудак устроил в тачке рок-фестиваль для тех, кто бодр после полуночи.
Выползаю на парковку. Не удивляюсь, когда красный "Лексус", лихо шикнув шинами, швартуется на обочине, наискосок. Из него вываливается парень в драных джинсах и кожаной косухе. Открывает дверцу для распомаженной, явно нетрезвой блондинки, шатающейся на каблуках. Развязно лапает её грудь, приподнимает на капот, целуя… нет, неподходящее выражение – засасывая до самых гланд. Вот он, значит, какой, наш пафосный Энтони.
Отпихивает спутницу, что улыбается по примеру портовой бляди (блядь-стажёрка), дёргает ключ из зажигания, гася гитары в колонках. Тащит её к дому. «О, времена, о нравы!» Открыто так, не таясь. В полпервого ночи.
Длинные волосы высветлены прядями. Густые брови – мазки краской и кисти, мажущие ей, сразу. Губы фигурные. Кукольные. Нижняя чуть крупнее верхней. Ровный нос, светлая кожа… и асимметрия, не до уродства: до сродства с ним. Будто скульптор в приступе самобичевания разнёс пополам неоконченный шедевр, а после, вернувшись к адекватности, слепил половинки вместе, не сумев вернуть первоначальной гармонии. Оказавшись в нескольких шагах, он (не скульптор, сама ошибка), наконец, меня замечает. Кривится в усмешке. Усмешка искажает его ещё сильнее. Самое примечательное в этой внешности (как и во всех людях, как всегда пишут и говорят), самое примечательное – глаза, чётко выраженные, бледно-серого цвета, прозрачные, тем ярче контраст с чернотой контура. Выделяет ли он их косметически, или природа одарила, не знаю. Жуткие глаза… как глупо. Глупо так пялиться на сводного братца.
Читать дальше