Мой выбор, теперь он сделан.
Я не жалею.
Второе, почему этот день застрял в моей памяти, связано с личиком, которое столько лет спустя явилось Надежде.
В последнюю субботу августа мы по традиции напивались. И это называлось: провожать лето. Напивались-то мы каждый день, когда удавалось достать денег. Еще до того, как я сделал мой выбор, я так много пил, что у меня стали кровоточить десны, пыткой было грызть яблоки или сухари. Но в день проводов лета полагалось пить большой компанией. Такая компания подбиралась из друзей детства, да еще таких, с какими во взрослой жизни находишь повод поговорить только после очень крепкой выпивки. В пятницу, стало быть, это было двадцать седьмого августа, уехали с дачи мои родители, увезли из дома все мягкое, что мешало его дереву гудеть, как барабан, и, как цимбалы, звенеть гвоздикам, забитым в фанерой отделанные стены вместо вешалок. И половицы и стены заиграли отходную. Потом-то я полюбил эту музыку, и были такие тихие снежные ночи, когда ничего дороже (граненый карандаш покатился по пустой полке и, упав на пол, разбил себе сердечко)… Но в тот день распоясавшуюся, обнаглевшую пустоту хотелось чем-то занять. Проводы лета вышли как нельзя кстати.
Погода предупреждала, что провожать будет нечего. Мы носили тяжелые шерстяные вещи, но и в них ночь заставала врасплох, заставляя еще что-то пододеть. Понимая, что произойдет у меня дома, я никого не поставил в известность (а в самом деле, кого?), и я становился все веселее. Я зазвал к себе всех. Стол в саду уставили бутылками, и на крепкий куст орешника над столом повесили магнитофон. Сели. И ловушка, которую я сам себе подстроил, захлопнулась! Еще не опрокинув даже первого стакана (портвейн отдавал жженым сахаром и плесенью, в бутылках «Эрети» плавали маринованные мухи, и у одной было желтое тельце и крапчатые крылышки), я уже понял, что вляпался. Несколько раз, пока шло приготовление, пока нарезали хлеб, лук, помидоры, пока искали консервный нож (и обошлись топориком), я уходил в дом и, слушая, как вздрагивают сетки кроватей, когда кто-то проходит по террасе, спрашивал себя: ну для чего, для чего все это? Неужто нельзя было с утра уйти в лес? И вернуться в темноте, и не зажигать света? И говорил себе: ничего не спасет, они бы все равно сидели в саду, когда бы ты пришел. Я почти не закусывал. И натянул на себя все самое старое, самое грязное, самое рваное, что только нашел на чердаке (зеленый свитер с растянутым воротом, ватник без пуговиц, брюки, по шву разодранные от колена). Я как будто предчувствовал, что это еще ох как надолго… и ничего другого. И надо привыкать. Лампочка террасы выбелила воротца из штакетника и сделала промежутки в нем непроглядными. «Идем!» – крикнула из-за стола Левонтьевна после того, как они уполовинили запас и только тогда заметили, что я куда-то надолго исчезаю. Я сошел с террасы, где от сидящих за столом меня отгораживала вишневая поросль, и направился к ним, но по пути, то ли с разгону, то ли спьяну, то ли просто навстречу судьбе, как это со мной и теперь часто бывает, я сделал несколько лишних шагов в сторону воротец. И тогда, в просвете между штакетинами, я увидел личико.
Нехорошее, мелкое, Надежду я очень даже понимаю. Гнусное, как все, что слышится в последнем предложении, – но только не страх, а гадливость. Сзади, в саду, уже кто-то кривлялся, содрогаясь как бы от приступа рвоты (это Василек, рыжий недоросль с отекшими глазками, единственный и любимый сын башнеподобной заведующей детского сада), а я смотрел на отвратительное личико, которое умоляло меня: «Открой. Я не знаю, как у тебя открывается калитка». Я еще не узнавал голоса. Есть люди, появления которых тут никогда не ждешь. Невозможно! – и они не могут быть узнаны.
Оно осело, когда я подошел, чтобы его впустить, наклонилось, исчезло в своих черных волосах – упало с цыпочек, на которых в темноте тянулось, ища какого-нибудь замка или засова, сложнее, чем моя необструганная вертушка. Мелкое, и еще мельче и неприятнее оттого, что черные волосы сливались с темнотой. У него был профиль полумесяца, испачканный розовыми веснушками, и такая пухлая нижняя губа, что верхней, в темноте, казалось, нет совсем. Более мелкие черты: утиный носик, мягкая острота подбородка, нежность век над густо вымазанными маркой тушью ресницами – впрочем, казались умилительными. А тот, кому, как мне, посчастливилось видеть уши…
В целом, однако, это личико мне трудно удавалось. Орудуя довольно острым прививочным ножом, я поправлял то там, то здесь, отходил на коленях на несколько шагов назад, ломая ветки, и убеждался, что опять ошибаюсь, и того ночного образа нет. А погрузить во мрак…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



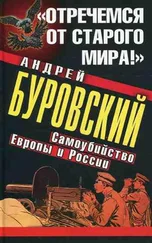

![Джек Вэнс - Глаза другого мира [Глаза верхнего мира, Глаза чужого мира]](/books/336901/dzhek-vens-glaza-drugogo-mira-glaza-verhnego-mira-thumb.webp)

