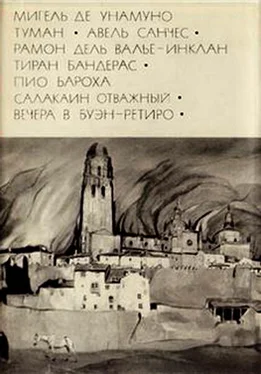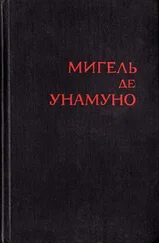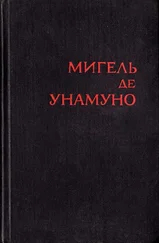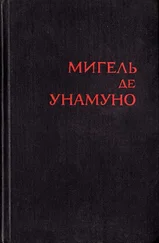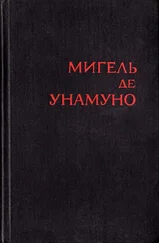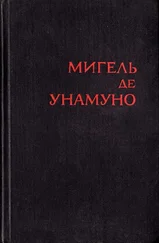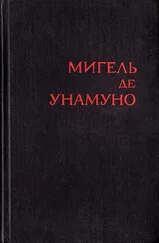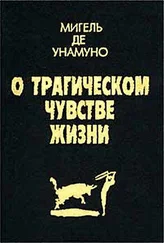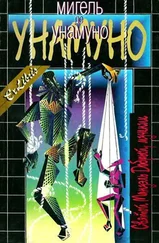1 ...6 7 8 10 11 12 ...364 Роман сложен, но точно выверен в композиционном отношении. Он состоит из семи частей, дробящихся на сто сорок три главы-миниатюры, пролога и эпилога.
Специфика идейного содержания романа требовала соответствующих формальных способов ее отражения. К ним относится и острогротескная форма произведения, и идеологически нагруженная гипербола, и прием «дегуманизации» отрицательных персонажей, и нервный синтаксис, и самое неожиданное использование эпитетов-характеристик. Образованный испанский читатель, несомненно, замечал обилие «американизмов» в романе, то есть слов и выражений, свойственных испанскому языку Америки. Однако только весьма эрудированный читатель мог знать, что лексические «американизмы» не соотносятся со словарем какой-нибудь одной страны, а берутся из различных национальных лексиконов. Вряд ли этот прием «американизации» можно объяснить только целями камуфляжа. Скорее следует предполагать, что выход за пределы чисто испанской («полуостровной») лексики вызван желанием представить тиранию как эпидемию, легко преодолевающую национальные границы. В этом как раз и состоит «предупреждающая» сила романа «Тиран Бандерас» и его непреходящая актуальность.
Когда Валье-Инклан выпустил в свет свой роман, он был уже знаменитым писателем, настолько знаменитым, что достаточно было произнести его имя — дон Рамон, чтобы испанец понял, о ком идет речь. Такой «фамильярности», такого общенародного признания удостаивались немногие: среди них в XVI–XVII веках — дон Мигель, то есть Сервантес, а в XX — дон Мигель — Унамуно.
Начало творческой деятельности Валье-Инклана и достижение им успеха у читателей хронологически совпадают, что случается не так уж часто, особенно в такой «литературной» стране, как Испания. Однако по первым произведениям («Вавилон», 1888; «Femininas» 1895; «Пепел», 1899, и др.) можно было лишь догадываться о его будущей писательской славе. Настоящая слава пришла с публикацией цикла романов, известных под названием «Сонаты» («Осенняя», 1902; «Летняя», 1903; «Весенняя», 1904; «Зимняя», 1905). Они объединены общим замыслом и одним героем. Последующие произведения внешне непохожи на «Сонаты», но в идейном и эстетическом отношении тесно с ними связаны: это непримиримая борьба с мещанством, острая критика буржуазной морали, развенчивание карлистского варианта «сказки о родине». Этой проблематике посвящены «Варварские комедии» (трилогия: «Орел с герба», 1907; «Волчий романс», 1908; «Серебряное лицо», переработанное издание, 1923), «Карлистская война» (также трилогия: «Крестоносцы правого дела», 1908; «Отблеск костра», 1909; «Коршуны былых дней», 4909). В годы, предшествующие первой мировой войне, Валье-Инклан создает свои первые произведения жанра «эсперпентос» («Маркиза Розалинда», 1913, и др.).
Первая мировая война и Великая Октябрьская революция в России активизировали не только рабочий класс и крестьянство, но и передовую испанскую интеллигенцию. В пьесах, памфлетах и романах этого периода Валье-Инклан отразил рост оппозиционных настроений и пришел к пониманию единственно правильного выхода из ужаса испанской действительности — необходимости революционных преобразований. Эти идеи в той или иной форме нашли отражение в таких крупных произведениях, как цикл «эсперпентос» «Вторник карнавала» (1923–1927), цикл исторических романов под общим названием «Арена Иберийского цирка» («Двор чудес», 1927; «Да здравствует мой властелин», 1929), в памфлете «Тиран Бандерас» (1926) и в двух неоконченных романах — «Пики-козыри» (1932) и «Золотой гром» (1936).
Валье-Инклан был горячим поклонником и другом Советского Союза и оставался им до самой смерти. Он явился инициатором или активным участником многих начинаний, предпринятых прогрессивной испанской интеллигенцией, испытавшей на себе благотворное влияние идей русской революции и деятельности испанской компартии.
Пио Бароха-и-Несси
В одном из мемуарных произведений Пио Бароха писал о себе: «В литературе я — реалист и немного романтик; в философии — агностик, в политике — индивидуалист и либерал, то есть аполитичен. Таким я был в двадцать лет, таким остался и в семьдесят».
Бароха с полным основанием причисляет себя к реалистам. «Я сформировался в XIX веке», — говорит он и называет среди своих учителей Бальзака, Диккенса, Стендаля, Ибсена, Толстого и Достоевского. Особенно восхищался Достоевским: «В жанре романа никто не может с ним соперничать. Он как солнце, пронизывающее своим светом пещеру, заселенную летучими мышами. Какая личность! Какой восхитительный писатель!» Писательский метод Барохи основывается на трех принципах, которые он старался неукоснительно реализовать: наблюдение, изучение, объяснение. Поэтому он предпочитает черпать сюжеты для своих произведений прямо «на улице», а не из книг. Это не значит, конечно, что он отрицал всякий вымысел (invenciόn), Более того, все его главные герои в основном созданы «по способу вымысла», тогда как второстепенные в большинстве случаев переносятся в книгу из жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу