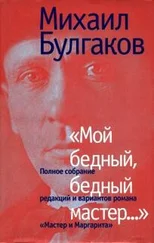Отцу я, разумеется, ничего не рассказывал. Я видел его очень мало и испытывал в его присутствии жгучий стыд. В своих бедах я признался матери, и тут не понадобилось лишних слов. Очевидно, она сразу все поняла и, смеясь, отделалась от меня какими-то пустяками. Всегда, если я жаловался на что-нибудь — ведь даже у самого счастливого ребенка время от времени бывают поводы для жалоб, — она дарила мне какой-нибудь пустячок, обычно совсем мне ненужный, например, серебряный позолоченный наперсток, еще теплый от ее пальца, и это сразу утешало меня.
Причиной моих горестей была школа, да, школа тоже.
Я учился все хуже и хуже, и в конце почти каждого месяца от педагогического совета приходило письмо в синем конверте, содержавшее «предупреждение», а кроме того, к сожалению, и «порицание»; на этих письмах должен был расписываться отец.
Но, уступив моим просьбам и настояниям, мать перехватывала эти письма, и я убедил ее подделывать хоть как-нибудь подпись отца, довольно неразборчивую, как у большинства врачей.
Меня очень тяготило, что в это время отец был со мной нежнее, чем когда бы то ни было. Это была не та нежность, которую проявляют по отношению к слабому, неустойчивому мальчику, обремененному множеством недостатков, к мальчику, часто поддающемуся ужасной вспыльчивости и столь нетерпеливому, что он не может доделать ни одного урока. Нет, это были скорее товарищеские отношения двух равных людей. В конце каждой недели он выдавал мне новый дукат, и я принимал как знак особого доверия то, что он никогда не проверяет, целы ли прежние. Да и как мог бы я их истратить? Я никогда не расставался со своими деньгами. Несмотря на все искушения, я ни разу не прикоснулся к своему сокровищу, и это было самой сильной моей опорой. Я рассчитывал на них в том страшном случае, если в феврале, при выдаче табелей за полугодие, у меня окажутся неудовлетворительные отметки. Эти деньги служили как бы противовесом.
Меня не покидала мысль сделать отцу подарок. Я знал, что он носит галстуки, вывернутые наизнанку, — если вглядеться попристальнее, можно увидеть продольный шов. Но для этой цели я копил серебряные кроны, которые, довольно нерегулярно, получал от матери. Их у меня было уже штук десять или одиннадцать.
Этой зимой, как-то под вечер, отец предложил мне поехать с ним к больному в закрытую лечебницу для душевнобольных, находившуюся за городом. Отец неохотно делал визиты, которые требовали много времени и приносили мало денег. Но на этот раз ему пришлось поехать, потому что его начальство, тот самый статский советник, о котором упоминал один из пилигримов, настоятельно просил об этом. Отец не стал посвящать меня в подробности. Но я полагаю, что дело шло о нервнобольном, страдавшем начинающимся (и тогда еще неизлечимым) параличом глазного нерва. Впрочем, может быть, он уже и ослеп.
Так как дела мои в школе шли все хуже и хуже и последнее письмо педагогического совета в синем конверте содержало целых два порицания и столько же предупреждений, я надеялся, что во время нашей поездки мне удастся подготовить отца к этой неприятности. Мне пришлось ждать довольно долго, прежде чем он позвал меня вниз, но тут, хотя шел уже седьмой час, явились новые пациенты. Отец попросил меня еще подождать и велел кучеру как следует укрыть попонами лошадей, потому что было холодно и начал падать снег.
Фонари у коляски были зажжены, это всегда вызывало недовольство отца — зачем понапрасну тратить дорогое масло? В ответ на мою просьбу кучер молча погасил фитили, зажав их своими грубыми пальцами. Потом он снова уселся на козлы. На лошадей уже были надеты попоны, и тонкий слой снега медленно покрывал коричневую мохнатую ткань. Но вскоре снег начал таять на теплых спинах животных, с боков их медленно стекали капли. Кучер, ударяя от холода в ладоши и хлопая себя по груди и по бедрам, слез, чтобы кнутовищем смахнуть снег с лошадиных спин. Вдруг, к моему великому изумлению, одна из лошадей разинула пасть, обнажив желтые длинные зубы, выступающие из бледных десен, и принялась громко ржать. К ней присоединилась и вторая.
Я нетерпеливо вбежал в приемную. Последние пациенты находились в кабинете. Царила мертвая тишина. Большие часы в углу стояли. Отец считал лишним заводить их. Он не хотел, чтоб часы ходили зря в комнате, где никто не живет. Наконец я услышал бормотание, что-то звякнуло — вероятно, это были деньги за визит, — и на пороге появились больные, а за ними отец. Лицо его казалось бледным, утомленным и неподвижным. Он слегка поклонился. На нем был белоснежный, без единого пятнышка халат, хотя он носил его всю неделю.
Читать дальше