Михаил Булгаков
«МОЙ БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ МАСТЕР…»
Полное собрание редакций и вариантов романа «Мастер и Маргарита»
Трудно назвать в русской литературе писателя, который в той или иной форме не коснулся бы так называемой «бесовской» темы. Чаще всего эти загадочные персонажи действовали в сатирических произведениях, но иногда они становились героями сочинений серьезных, трагических. Михаил Булгаков, опиравшийся на творческий опыт Гоголя, Достоевского, А. К. Толстого, Н. П. Вагнера, В. И. Крыжановской-Рочестер и др., сумел придать этой специфической теме свои особые черты, вытекающие из нерадостной действительности двадцатых—тридцатых годов прошлого столетия («Похождения Чичикова», «Дьяволиада» и др.). Писатель смог отразить сложнейшие события своей эпохи в исторических текстах древнейшего времени, прибегая зачастую к тайнописи, которую не всегда можно расшифровать даже специалисту. При этом герои — представители якобы трансцендентной силы — использовались писателем для решения многосложных и разнообразных художественных задач, в совокупности представлявших собой события, реально развивавшиеся в Москве («красном Ершалаиме») и вокруг Булгакова.
В «Мастере и Маргарите», самом великом своем романе, Булгаков причудливо смешал фантастическое и реальное. Здесь персонажи из ада играют ключевые роли.
В романе-эпопее, над которым художник трудился примерно десять лет, Булгаков, по сути, выразил свое отношение к совершившейся в России в ходе революционных преобразований коренной перестройке всех основ народной и государственной жизни. Разумеется, и в более ранних своих произведениях он касался этой проблемы, но делал это не так масштабно.
В «Мастере и Маргарите» оценка новой действительности дана Булгаковым в самой резкой, порой уничтожающей форме. Любопытно, что даже ближайший друг писателя П. С. Попов, ознакомившись с содержанием последней редакции романа, так характеризовал его в письме к Е. С. Булгаковой от 27 декабря 1940 года: «Конечно, о печатании не может быть речи. Идеология романа — грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все ярче проступает. А мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над i. В этом отношении я бы сравнил с „Бесами“ Достоевского. У Достоевского тоже поражает мрачная реакционность — безусловная антиреволюционность. Меня „Бесы“ тоже пленяют своими художественными красотами, но — из песни слов не выкинешь — и идеология крайняя. И у Миши так же резко. Но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внутреннему чувству — если бы изъять идеологию „Бесов“, не было бы так выразительно. Мне только ошибочно казалось, что у Миши больше все сгладилось, уравновесилось (Попов сравнивает последнюю редакцию романа с более ранними вариантами, имевшими свои плюсы и минусы.— В. Л. ),— какой тут! В этом отношении чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда остается гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50—100. Но… надо беречь каждую строку — в связи с необыкновенной литературной ценностью» (См.: М. Б у л г а к о в. Письма. М., 1989. С. 533—534).
Важнейшим стимулом к написанию масштабного романа о новой российской действительности, несомненно, послужило богоборчество, ставшее государственной политикой новой власти. Булгаков рассматривал это явление как целенаправленное уничтожение основ тысячелетней русской духовности и государственности. Уже в «Белой гвардии» он пытался заострить внимание на этой проблеме, создав удивительный по художественной силе образ русского интеллигента Ивана Русакова, писавшего для либеральных журналов богоборческие стишки. Но в последующие годы богоборчество в стране стало обретать еще более агрессивный характер, началось массовое истребление духовенства. О реакции Булгакова на эти события можно судить по его дневниковым записям от 5 января 1925 года:
«Сегодня специально ходил в редакцию „Безбожника“. Она помещается в Столешниковом переулке… Был с М. С. (Митей Стоновым.— В. Л. ), и он очаровал меня с первых же шагов.
— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.
— То есть, как это? (растерянно). Нет, не бьют (зловеще).
— Жаль.
Хотел поцеловать его в его еврейский нос.
Оказывается, комплекта за 1923 год нету. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год… Тираж, оказывается, 70 тысяч, и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, выходит, приходит; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы:
Читать дальше
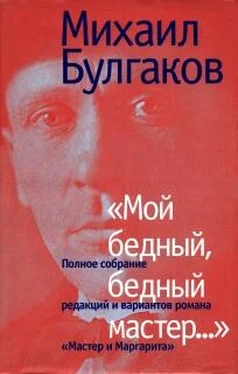


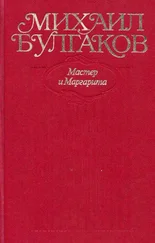

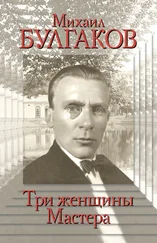



![Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита [litres; с иллюстрациями А. Марковской]](/books/400112/mihail-bulgakov-master-i-margarita-litres-s-illyu-thumb.webp)
![Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита [Посев]](/books/429262/mihail-bulgakov-master-i-margarita-posev-thumb.webp)
