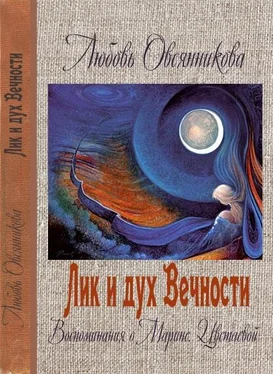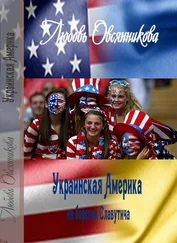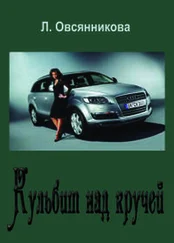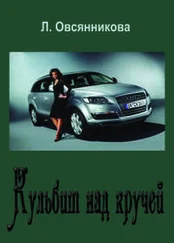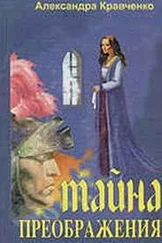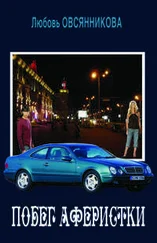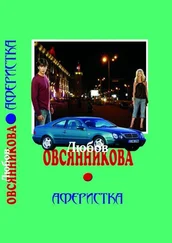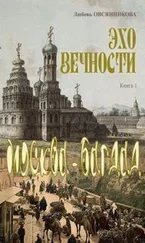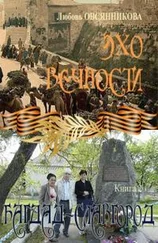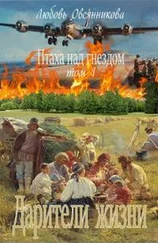— Могло такое быть, что раздражала. Ее присутствие очень сильно ощущалось. А еще зависть сказывалась.
— Мамочка, чему же там было завидовать? По свидетельствам многих людей, знавших ее, она была плохим человеком, следовательно, глупой, что я и по стихам вижу. И нищей. Видимо, это тоже явилось следствием ее качеств.
— Не преувеличивай.
— Это для усиления эффекта, — оправдывалась я.
— Нельзя сказать, что глупой, но ее ограниченность отрицать не стану. И нищей была, это точно. Я даже больше скажу: она сильно болела. И давно. Так давно, что свою болезнь принимала за характер. Думаю, что эта болезнь ее и сгубила. Только талант в ней был необыкновенный. А это уже сокровище. Как же не завидовали? Еще как…
Я прекращала перечить, замолкала и сидела тихо, пока мама раздумывала над сказанным... пока оно проходило через слои ее души и оседало там, как дождевые воды очищаются, проходя сквозь землю, и разливаются в глубине невидимыми озерами.
— Смотри, — вскидывалась мама и начинала перебирать книги, открывать их на закладках, быстро говоря: — почти всегда утверждение одного мемуариста противоречит другому, кому-то она казалось маленького роста, кому-то — высокого. И так — во всем. Как же быть читателю, особенно если у него нет воображения? Как из обилия разноречивого материала создать свой образ Цветаевой? А ведь это необходимо для адекватного восприятия ее поэзии, понимаешь?
— Понимаю, — я улыбалась, поражаясь неугасимому просветительскому рвению мамы. — Видимо, так надо поступать, как мы поступаем в жизни, — учитывать эстетические идеалы каждого автора и соотносить их со своими, на этом и строить портрет Цветаевой.
— Ну да, только заметь, что об авторах воспоминаний ничего не известно! Кто они, как жили? Как относились к ней? Какими мерками ее меряли? В лучшем случае на них дана информационная сноска. Они — тени. От чего же отталкиваться в оценке их свидетельств? С чем соотносить свои идеалы и на чем воссоздавать Цветаеву?
— Да… По-моему, ты права.
В паузы мы не бездействовали — размышляли.
— Вот будешь писать книгу, — назидательно говорила мама дальше, — обязательно расскажи о тех, кто о Цветаевой оставил воспоминания. Тут же, в этой самой книге все расскажи о них, хоть коротко, но чтобы читатели не рылись, не искали, не думали, не гадали — кто да почему… Чтобы они могли четко представить себе ее окружение, особенности исторического момента, главные конфликты того времени. Ведь многим и не придет в голову рыться, искать... Просто поверят написанному, и все. А надо не на веру принимать, а размышлять. Для этого ты и снабди их информацией.
Я обещала так и сделать, но позже вставлять в свою книгу так много справочного материала поостереглась, это могло ее испортить. Поэтому составила отдельную книгу «Те, кто помнил Цветаеву» и издала ее.
— А я тебе сейчас скажу, что у кого не так написано. И почему.
— Что — у всех не так?
— Нет, — улыбнулась мама, — не у всех. Остальных я просто дополню, если смогу. Записывай, — кивнула она мне. — С кого начнем?
— Давай по алфавиту, — предложила я.
— Давай.
***
Мама долго перебирала книги с закладками и исписанные крупным почерком листики в четверть стандартного листа, на которых делала выписки из Сети.
— Ага, вот, собрала. Начинаем с Г. Адамовича, — и она прочитала:
Адамович Георгий Викторович [7 апреля 1894, Москва — 21 февраля 1972, Ницца] – поэт, ведущий критик литературы русского зарубежья.
Учился во 2-й московской, затем в 1-й петербургской гимназиях, в 1910–1917 гг. — на историко-филологическом факультете С.-Пб. университета. В 1914–1915 гг. сблизился с поэтами-акмеистами. В свою российскую бытность был скромный молодой поэт, один из верных гумилевских «цеховиков». Публиковаться начал в 1915 г., а в 1916–1917 гг. стал одним из руководителей второго «Цеха поэтов». Выпустил сборники: «Облака» (М.-П., 1916), «Чистилище» (П., 1922).
После Октябрьской революции участвовал в работе третьего «Цеха поэтов», регулярно выступал со стихами и критикой в его альманахах, а также в газете «Жизнь искусства», переводил для издательства «Всемирная литература» Бодлера, Вольтера и др.
В 1923 эмигрировал во Францию, где во время Второй мировой войны вступил во французскую армию.
На Западе он сумел вырасти в ключевую фигуру поэзии и стал настоящим властителем дум эмигрантской поэтической молодежи. В условиях всеобщих поисков своего пути и стиля только Г. В. Адамовичу удалось создать более-менее устойчивое течение: «парижскую ноту», поэзию «честной бедности», отказа от любых украшений, риторики, ложного блеска. По мнению литературных аналитиков, эта позиция не могла привести к значительным достижениям, однако он по праву занимает одно из первых мест на эмигрантском поэтическом Олимпе.
Читать дальше