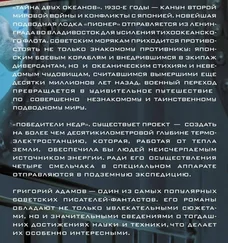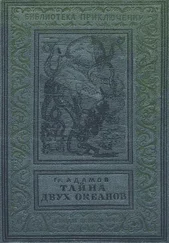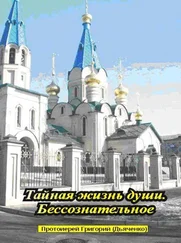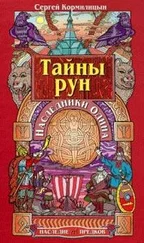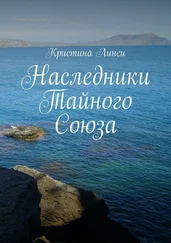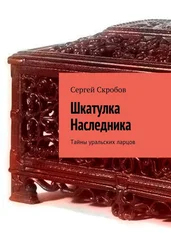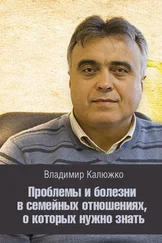– Молчать! Сволочь! Негодяй! После поговоришь… Возьмите их, – сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру…
Ко мне то и дело подходили офицеры 2-го Уманского полка и говорили:
– Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом…»
Следующий отрывок прямо указывает на полк, в котором служил Ступин.
«Но в это мгновение к Линде подошел командир полка. Он хотел еще более убедить его уехать.
– Уезжайте, – сказал он, – 443-й полк снялся с позиции и с оружием идет сюда. Он хочет с вами говорить…
В это время в лесу в направлении позиции раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил:
– Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке. Я приказал пулеметчикам открыть по ним огонь, но они отказались».
Сомневаться в достоверности письменно изображенных трагических событий Илья Антонович не мог, поскольку воспоминаниями делился очевидец – бывший царский офицер.
Вскоре одного из зачинщиков восстания – Александра – доверенные товарищи-фронтовики из солдатского комитета скрытно вместе с другими ранеными «провезли под бинтами на лазаретной линейке до ближайшей станции». Если генерал от Луцка до ставки в Могилеве добирался три дня, то солдатский эшелон с нездоровыми солдатами мог идти не одну неделю. По всей вероятности, погрузившись в санитарный поезд, Ступин не скоро прибыл на крупную узловую станцию Смоленск. Он был центром сортировки, лечения и эвакуации вышедших из строя фронтовиков и беженцев. Через некоторое время из одного из лазаретов выздоровевшего солдата направили для продолжения службы в ближайшее воинское подразделение.
Весть об октябрьском перевороте застала Александра в Бельском уезде Смоленской губернии. Агитатора-фронтовика избрали в состав комиссии по ликвидации управления воинского начальника. Демобилизация старой армии ускорилась. Воинские эшелоны шли на восток.
Чтобы убедиться в правдивости автобиографии Александра и его прибытии в город Саратов, Илье Рудневу пришлось внимательно изучить общее положение в войсках Западного фронта и порядок их демобилизации. Выявилось также значение Саратова не только как крупного транспортного центра в Поволжье, но и места сбора и формирования частей Красной Армии на Восточном фронте.
Дальнейший путь – в железнодорожных вагонах с демобилизованными солдатами до Саратова, – видимо, был не быстрым и не без приключений. Сегодня известно, что стихийная демобилизация продолжалась и после Октябрьской революции. 1 декабря 1917 года закончилась служба Ступина-старшего в Российской императорской армии.
О том, что демобилизованные фронтовики 10-й армии прибывали в Саратов, подтверждают 108-й Саратовский и другие полки соседней 27-й пехотной дивизии. Это видно из сообщений о формировании весной 1918 года Красной Армии Саратовского Совета. Среди воинских подразделений указывался Саратовский пехотный полк, имевший семьсот штыков, шесть орудий, тридцать пулеметов, один бронеавтомобиль и пять аэропланов.
Активного солдатского агитатора саратовские большевики сразу заприметили. Вспоминал один ветеран Гражданской войны:
«Таких агитаторов-самородков, захватывающих душу, боевых, преданных партии, революции, Ленину, у нас в военной организации было немало. Нужно было как можно быстрее поднять их уровень, обогатить их природный ум минимумом знаний. Мы в первую очередь ускоренными темпами организовали клуб. Устраивали мы там собеседования и вечера вопросов и ответов, лекции и доклады по текущим политическим вопросам».
В декабре 1917 года группу солдат-фронтовиков, среди которых был и Александр Ступин, пригласили в комитет партии 1-го района города Саратова. Здесь же его приняли в члены партии и выдали партийный билет члена РКП(б) № 8240. В партийной анкете он лично написал: «…вступал в 1917 году 6 декабря, придя в комитет во время заседания, и тут же получил билет».
Многие фронтовики рвались в родные места. Первым из братьев возвратился в Романово-Богородск израненный Александр. Вскоре тридцатиоднолетний Саша в родном городе обнял ждавших его мать Анну и сестру Олю. Встретил и друзей юности Ваню Шитова, Митю Иванова и других. Первым делом направился на льняную фабрику, с которой был уволен более пяти лет назад. Партийный коллектив с радостью принял в свои ряды земляка. Однако свободных рабочих мест в городе не было. Трудности с поиском работы испытывали и многие другие демобилизованные солдаты, пришедшие с фронта. Александр с головой ушел в создание и организацию деятельности «Союза помощи безработным солдатам Романово-Богородска». При правлении было открыто Бюро труда для оказания помощи в трудоустройстве солдатам.
Читать дальше