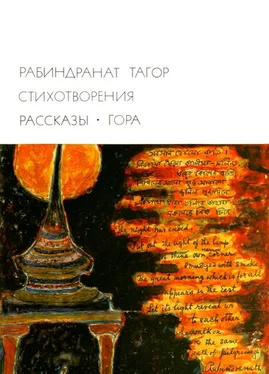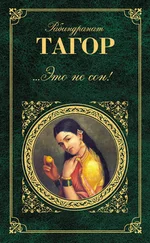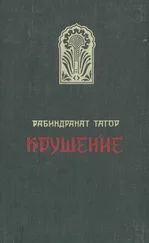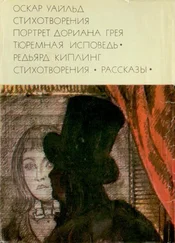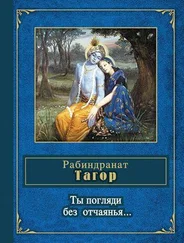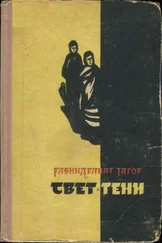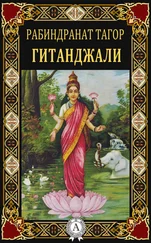А чувство ритма глубоко присуще индийскому народу, его художественному творчеству и в первую очередь танцу — этому любимейшему виду его искусства, распространенному среди индийского народа как нигде в мире. На ритме основана пластика Индии, она придает особую выразительность и очарование позам, жестам, движению фигур, их композиции. Ритм линий в высшей степени характерен для ведущих контурных линий миниатюрной живописи раджпутов и других народов Индии, а также для деревенского искусства бенгальских ремесленников. Ощущение ритма было врожденно у Тагора как индийца, и это было единственным, чему его обучали: ритму в звуках, даже ритму в мыслях, как говорит сам поэт. И хотя он специально не изучал древнее искусство своей страны, великий закон ритма повелевает его искусством. Ритмически выразительная линия имеет ведущее значение в его рисунках: она то льется в певучих изгибах (рис. 12), то создает прямолинейную геометризацию фигур, но она всегда энергична, четко и смело очерчивает контуры, уверенна и свободна. Она способствует динамичности выражения в картинах Тагора, а это качество присуще индийскому искусству с древности. Когда же Тагор передает танец, движение у него приобретает поистине буйный размах.
Но главной идейной основой искусства Индии в целом и Тагора в частности была идея единства. «Красота только средство (искусства. — С. Т.), а не его конечная цель и смысл. Подлинный принцип искусства есть принцип единства». На нем построен великолепный синтез индийской архитектуры и скульптуры, где сами формы построек бывают пластичны, где многоликая скульптура, в изобилии приданная архитектуре, представляет единство в многообразии форм. Такова и основная идея философии Упанишад, наиболее близкая Тагору.
Единству в пластике и живописи способствует ритм.
Принцип единства является основой гуманизма, всегда проникавшего индийское искусство и не только связанное с буддизмом, где гуманизм — специфическая черта этой религии, но и с индуизмом, с идеями Упанишад, где великая драма жизни ведет к свету. Философски возвышенный гуманизм окрашивает и все творчество Тагора.
В Индии эмоции, чувства — «раса» нередко построены на парах противоположностей, как, например, ярость и мир. Такова замечательная гигантская скульптура из камня (VIII в.) трехликого Шивы — одного из высших божеств индуизма. Один из ликов яростен, почти свиреп, но это ярость разрушения, предшествующая новому творчеству, — космическая драма, длящаяся вечно,? потому лик Шивы веет величием вечности и умиротворенностью. Таковы образы и у Тагора, даже те, которые кажутся кошмарными.
Так удивительно перекликается живопись поэта с древним искусством Индии, хотя внешне она на него кажется совсем непохожей. Но общность основных принципов остается, хотя их воплощение в материале совсем иное.
Эмоциям — раса в древних индийских трактатах придавалось исключительное значение. Через раса, например, любовь, можно познать божество. И индийское искусство в течение веков было проникнуто глубокой эмоциональностью, возьмем ли мы живопись знаменитых пещер Аджанты V–VII веков, раджпутскую миниатюру или средневековую скульптуру. Это врожденное качество индийского народа. То же и у Тагора. Особенно женские образы, они нередко как бы сотканы из одних эмоций. Это придает им удивительную одушевленность, и они глубоко психологичны, необыкновенно привлекательны женственностью. Он создал целую серию прекрасных изображений женщин, то с сосудом в руках, то с ребенком, или женские головы (рис. 11). Большей частью это обобщенные и типичные образы его современниц. И художник заставляет нас лучше понять и полюбить Мать Индии. Эти образы (рис. 5 и 6) отличаются ясностью и в то же время загадочностью. Про них можно было бы сказать то, что сам Тагор говорил о Николае Рерихе: «За ними стоит непознанный автор». Если же в произведении выражено все до конца и нет места творческому воображению зрителя, то это смерть подлинному искусству. С непринужденностью и естественностью, даже при наличии некоторых условностей, с легкостью и свободой и вместо с тем с большой смелостью и уверенностью очерчены ритмично изгибающиеся контуры этих ликов и фигур, как будто работала рука опытного профессионального мастера. Видно, что женские образы чаще всего трогали самого автора. Именно им он посвящал краткие строки стихов: «Вот женщина, вечно мне незнакомая, и все же мне кажется, я знаю ее».
Читать дальше