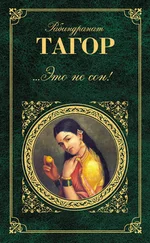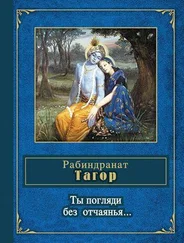Недавнее потрясение заставляло Гору говорить с таким подъемом, таким энтузиазмом, что волнение передалось и Порешу-бабу. Он встал со стула и теперь слушал стоя.
— Вы ведь понимаете меня? — продолжал Гора. — Я пытаюсь сказать, что стал наконец тем, кем непрестанно стремился стать всегда и не мог. Сегодня я действительно стал индийцем. В моей душе нет больше места противоречиям, существующим между индуистами, мусульманами, христианами. Отныне каждая каста Индии — моя каста и хлеб всего народа — мой хлеб. Знаете, что я вам скажу: мне приходилось много блуждать по Бенгалии и пользоваться гостеприимством самых нищих деревенских семей — не думайте, что я выступал с проповедью только перед городской публикой, — но далеко не со всеми я мог сесть рядом, как с равными. И все это время я таскал за собой невидимую пропасть, которая отделяла меня от людей и которую я никак не мог переступить. Постепенно в моем мозгу образовалась какая-то пустота, хотя я всячески старался не замечать ее. Я пытался прихорошить эту пустоту всевозможными побрякушками, потому что, любя Индию больше жизни, я не допускал никакой критики в отношении той части ее, которая была мне знакома. И вот теперь, когда я освободился от бесплодной обязанности выдумывать всякие никчемные украшения, я, Пореш-бабу, почувствовал, что снова живу.
— Когда мы обретаем нечто истинное, — сказал Пореш-бабу, — нас радует в нем все — даже самая его неполнота и несовершенство, и у нас никогда не бывает потребности украшать его фальшивыми драгоценностями.
— Знаете, Пореш-бабу, — сказал Гора, — прошлым вечером я молил бога, чтобы он позволил мне вступить сегодня в новую жизнь! Я просил, чтобы все ложное и скверное, что опутывало мою жизнь с самого детства, отошло от меня навсегда, чтобы я мог возродиться. По-видимому, господь по-своему истолковал мою молитву — он поразил меня неожиданностью, с какой открыл мне всю правду. Я и мечтать не мог, что он так начисто сотрет с меня сегодня всю скверну. Я стал так чист, что могу, не боясь осквернения, войти даже в дом чандала. Пореш-бабу, сегодня утром с сердцем, совершенно открытым, я пал ниц у ног моей Индии — только теперь я наконец окончательно понял, что такое материнское лоно.
— Гора, — сказал Пореш-бабу, — веди нас, чтобы и мы могли разделить с тобой данное нам от рождения право покоиться на материнском лоне.
— А вы знаете, — спросил Гора, — почему, обретя свободу, я прежде всего пришел к вам?
— Почему? — спросил Пореш-бабу.
— Вы знаете, где ключ к этой свободе! Потому-то вам всегда будет тесно в любой общине. Возьмите меня в свои ученики, Пореш-бабу! Укажите мне путь к такому богу, который принадлежит всем: индуистам, мусульманам, христианам, брахмаистам, — всем без исключения, двери храма которого никогда не закрываются ни перед кем. Я хочу, чтобы он был не просто богом индуистов, но богом самой Индии!
Лицо Пореша-бабу засветилось тихим благоговением, и он молча опустил глаза.
Тогда Гора повернулся к Шучорите, неподвижно сидевшей на стуле.
— Шучорита, — сказал он с улыбкой. — Отныне я уже не ваш гуру. Но молю вас об одном — возьмите меня за руку и отведите к своему настоящему гуру.
И он протянул ей правую руку. Шучорита встала, вложила свою руку в его, и они вместе склонились перед Порешем-бабу в глубоком поклоне.
Когда в тот вечер Гора вернулся домой, Анондомойи тихонько сидела на веранде перед своей комнатой. Он подошел к ней и опустился к ее ногам. Анондомойи подняла его голову и поцеловала.
— Ты моя мать! — воскликнул Гора. — Мать, в поисках которой я скитался повсюду, а она, оказывается, все время ждала меня дома. Ты не знаешь каст, ты не знаешь ненависти, для тебя все равны — только ты олицетворяешь для нас счастье! Индия — это ты!
— Ма, — попросил он немного погодя, — позови, пожалуйста, Лочмию, пусть она принесет мне стакан воды.
И тогда ласково, голосом, в котором еще слышались слезы, Анондомойи прошептала:
— Гора, давай я пошлю за Биноем!
С. Тюляев. О рисунках Р. Тагора
В возрасте шестидесяти семи лет Тагор бурно увлекся рисованием. Это был внезапный взрыв нового творчества, и произошел он в 1928 году. Сенсация началась через два года в Париже, в «Галери Пингаль»: там мир впервые увидел его акварели. Отзывы французов были восторженные. В 1930 году последовали выставки в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и в Москве.
Весь мир был поражен, что многогранный творческий гений Рабиндраната Тагора скрывал и дар художника. Поражало своеобразие и новизна таланта поэта, который начал рисовать без всякой подготовки, как дети. В Германии больше восхищались его рисунками людей, во Франции — пейзажами и фигурами животных.
Читать дальше