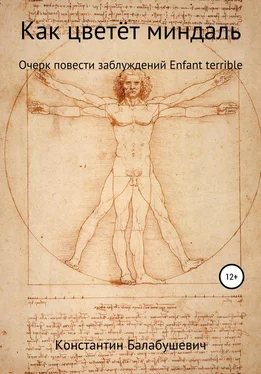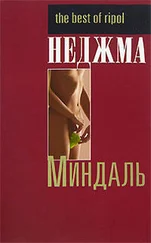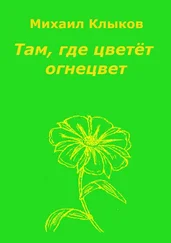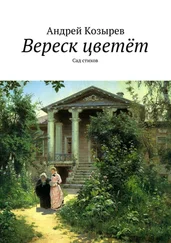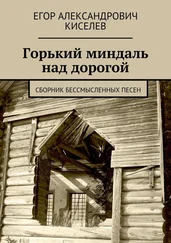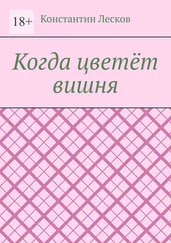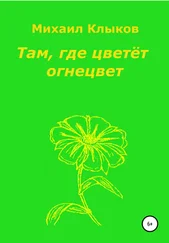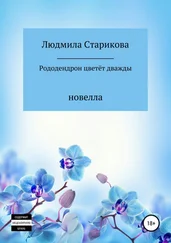А как же, тем временем, апостолы? В их поведении, в их лицах, мы видим всю палитру базовых реакций сознания, стоящих на страже наших слабостей и страхов: неверие святого Фомы, отрицание святого Иакова, эгоизм юного Филиппа, удрученность святого Иоанна, подозрительность святого Петра, ужас святого Андрея, подлость Иуды…
Никто не признаёт вины. Не берёт ответственность. Не созидает. Только реагирует, спорит, удивляется, требует доказательств, причём прежде всего в своей невиновности, а затем, с «чистой» очевидно совестью, повелевает растерзать, наказать жертву. Вот и призван оказался Иисус в назидание стать необходимой искупительной жертвой. Но стал ли, в действительности, сей поступок, таковой? Со временем, чередуя поколения с убийственной закономерностью, не превратился ли святой сюжет в простую историю, соизмеримую (в лучшем случае) по назидательности любой другой иносказательной сказке. Для Иисуса свой жизненный путь не воспринимается жертвой, так как «спродюсировать» последнюю может только чудовищная гордость, ему не присущая. Многие же из нас с вами воспринимают знаменитую смерть, как должное, а дивное воскресение, как ложное. «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят!». Так ли, что не ведаем? Ведь «ты» примером своей жизни всё показал нам и представил. Ты прошёл три испытания в пустыне от злых, но прямолинейных, в своем коварстве, духов, устояв пред искушением обратиться к чудесам, которые могли бы купить нас, но разгневать при этом Бога Отца. Ты смиренно сдался и принял смерть, обнажив наше примитивное мышление и «величайшую в своей низости» слабость, особенно ярко «сияющую» в борьбе за власть и деньги. Ты снизошёл после всего Святым духом для составления твоими Апостолами и последователями бестселлера на все времена. Но ведь очевидно, что наш критический разум, вкупе с ограниченным сознанием, не в состоянии ни постичь истину в Священном Писании, ни испытать от прочтения пресловутый катарсис, вновь вызывающий лукавую улыбку. Ведь подобное познаётся подобным – так вдохновлённое Святым Духом постигается Святым Духом. А для последнего, несмотря на подвиги и подвижничество, души и сердца закрыты, так как ценность кажется эфемерной. Очевидно для Пророка и то, что никакие чудеса не способны изменить наше сознание, которое быстро обратит божественное проявление в шоу, а затем и привычку. Пока существует страсть, мы будем вечными её подданными. Она диктует наши привычки, и в её угоду формируются ценности. При этом страх перед неправедной жизнью, потерей источника истинной любви и даже карой Божией, только лишь усиливает сладострастное брожение греховного плода, трансформируя опасные фантазии в навязчивые желания, затем в потребности, и, наконец, в привычку, за которой могут последовать новые вызовы разыгравшихся страстей. Подстать, современная социально-экономическая «догматика» дарует нам свой удобный и выгодный «катехизис» , позволяющий весьма успешно совмещать в одном гражданине и финансиста, и семьянина, и ученого, и маньяка-сладострастца. Зачем таить греха – мы любим свою Королеву! Оставаясь её верноподданными, мы не претендуем на трон. Парламент, в виде разума, духовенство, в виде совести, и, главное, народ, в виде жажды к жизни – все самозабвенно служат Королеве. Как некая современная утопия, с сознательно проданной в подчинение свободой. То ли «неодемократия» , то ли «неомонархия» , или, лучше и глубже впадая в заблуждение, скажем « неомонократия» . При этом, являясь гражданином этого нового «сверхгосударства», к реальной и легитимной власти относишься уже по остаточному принципу, как к игре, сценарий которой основательно опостылел. Царство Божие же, отправляется куда-то к вопросам общей эрудиции и, соответственно, демагогии.
Кто мы и куда без страсти в современном мире? Этот риторический вопрос, увы, близок идее о том, что и в грехе, и в спасении первенствует женское начало. Возвышение или падение находится в зависимости от понимания и сочувствия женской природы. Её чары, вооружённые нашими заблуждениями, гораздо сильнее влияний пророков и притягательнее незримой свободы. Её дары ощутимее и разумнее мытарств на пути к Божьему суду. Скажу честно, внемля идеям Достоевского, в лице «бунта» Ивана Карамазова, образ Великого Инквизитора, представляется мне в женском обличие.
Как бы там ни было, не обещания страсти, не «сделка» с Великим Инквизитором, не скандальный развод мужского и женского начал (не сошлись характерами – с кем не бывает), явились причиной потери истинной любви, стремлений к высшим идеалам и спокойствию мудрости. Всё это непреложные следствия, а источник заблуждений стоит искать в зле, для которого сейчас созданы исключительно благоприятные, привилегированные и даже творчески активные условия. С течением человеческой жизни, страх, как одно из самых пагубных заболеваний, расползается по всему телу, по всем органам, заставляя маскировать заразу злобой. При этом, по аналогии с медицинской маской, не защищающей окружающих и не исцеляющей нас, а должной служить своеобразным маяком «проходящим судам» – о скрывающемся во тьме тревожной ночи или бушующих страстей страхе, сигнализирует, стремящаяся наружу, трудноскрываемая злоба. Её отец – страх; её мать, извиняюсь – глупость; а сводная сестра – слабость. Родителей, как и родных детей, не выбирают, поэтому, несмотря, по возможности, на «прирученную» слабость, на нас всех лежит колоссальная ответственность начать с самих себя.
Читать дальше