Согласно кивнув, Доркис пропустил его замечание мимо ушей — один из его излюбленных приемов, как я узнал. Он любвеобильно раскрыл объятия всему миру.
— Преследуй одну избранную истину, не отвлекаясь, чтобы взглянуть вправо или влево, и — бац! — Он сверкнул глазами, произнося эти слова, и выбросил вперед кулак. Он был великолепен и сиял, как тысяча гранатов. Скажи он: «Круги квадратны», и я был бы заброшен на высочайшие вершины философии. Я выпил и наполнил свой кубок.
— В некотором смысле нет ничего истинного, — сказал он. — Треугольники, например. Все законы геометрии утрачивают силу, когда ты пытаешься нарисовать треугольник на круглом горшке. Сумма углов меняется, или линии никак не получаются прямыми. — Он сгорбил плечи — скорее как борец, чем как гончар, — радостно улыбаясь трудностям жизни и делая вид, что силится провести линию на своем кубке.
— Это просто, — сказал я. — Ты разбиваешь кувшин и рисуешь на черепках.
Он засмеялся.
— За Ликурга.
Мы выпили.
— Так оно и происходит, — сказал он. — Жизнь. Опыт. Они как живые, постоянно меняют свои очертания. В некотором смысле жизнь становится чем-то другим, стоит только познать ее законы. Она разбивает этические теории в пух и прах.
Я засмеялся просто от хорошего настроения. Если бы я захотел быть слишком придирчивым, я мог бы заметить, что Доркис склонен к афоризмам.
— Все — воздух {23} 23 Все — воздух… — Идея о том, что все сущее происходит из воздуха, принадлежит древнегреческому философу Анаксимену из Милета (ок. 588 — ок. 525 гг. до н. э.).
, — сказал он. — Дыхание бога. — С этими словами он вновь широко развел руки, как человек, который только что вернулся домой из города и загоняет скотину за ворота, и я засмеялся.
Жрец заулыбался и кивнул, показывая, что он не спит. Выглядел он, однако, ошеломленным.
— Ты должен парить в нем, как птица.
— Верно. — Я вдруг радостно осознал, что опьянел от двух кубков, и вечер расстилается передо мною как луг.
— Этика, — произнес я, — это некая теория, которую человек навязывает миру. Человек устанавливает набор правил, или некий тупоумный жрец выдумывает правила, — я погрозил жрецу пальцем, — и ты пытаешься установить правила внутри себя так, чтобы они соответствовали тому, что снаружи. Если же внешний мир вовсе не соответствует тому, что говорят твои правила, или подходит под них во вторник, а в среду уже нет… (Тогда это не была моя обычная точка зрения, но мне она понравилась, и с тех пор я ее придерживаюсь — из сентиментальности.)
Жрец покачал головой и взмахнул кубком.
— Прошу меня простить, но вы оба глубоко заблуждаетесь.
— Если бы люди хоть иногда не заблуждались, жрецы были бы нищими, — ответил Доркис.
Веселая беседа длилась на протяжении всего обеда, который состоял из нескольких не по-спартански изысканных блюд, и я больше ничего не помню, кроме отдельных образов: моя обворожительная жена Тука остроумно, со злой насмешкой рассказывает о Коринфе; какая-то толстая угрюмая матрона, похожая на иволгу, склоняет голову набок, прислушиваясь к тому, что цедит сквозь зубы вспыльчивый человечек; Иона высоко поднимает большое глиняное блюдо с черными узорами, словно танцуя с выводком теней на белой стене позади нее. Мы с Доркисом, перекрикивая друг друга, обсуждали туманные материи. Его зубы блестели, раскосые глаза сверкали, на скулах двигались желваки мышц размером с кулак, руки бешено летали, грубые взмахи кулачного бойца в следующее мгновение сменялись точными движениями ремесленника — мастера точной работы. Казалось, чем больше он пил, тем острее становился его ум. Я же глупел все больше, хотя среди всеобщего гама это было не очень заметно. В какой-то момент я заснул.
Позже он сел на мягкую кушетку, обнял Туку и положил руку ей на грудь. Она щебетала что-то умное о серебряных дел мастерах, и Доркис смеялся до слез, восхищенный ее великолепием — быстрым умом, сомнительными остротами, молниеносной сменой выражения лица, гибким телом. Он притянул ее к себе и положил голову ей на плечо. Меня это немного удивило, но не показалось чем-то неестественным. Я вышел из дома. Деревья кружились у меня перед глазами, как большие черные колесницы.
Несколько минут я стоял на свежем воздухе, пытаясь протрезветь, и затем вышел в сад, на миг убедив себя, что мне интересны цветы и овощи. Я подобрал лист и стал рассматривать его в лунном свете. Меня охватил благоговейный трепет, болью пронзивший все тело, и после этого я почему-то утратил интерес ко всему. Я помочился. Когда я поднялся по ступенькам обратно в дом, Иона стояла изогнувшись, опираясь о колонну с якобы естественной и непринужденной грацией.
Читать дальше
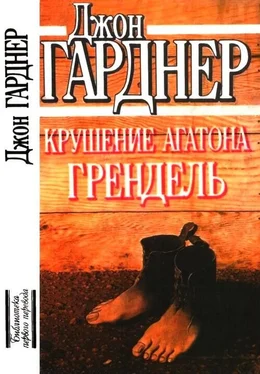






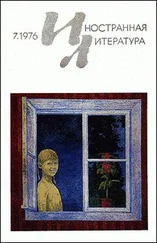
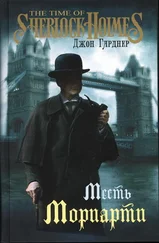


![Джон Скальци - Крушение империи [litres]](/books/413179/dzhon-skalci-krushenie-imperii-litres-thumb.webp)
