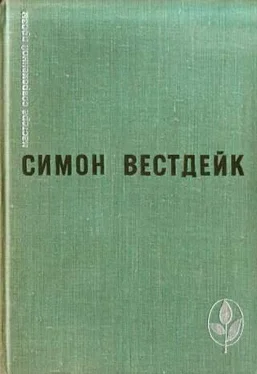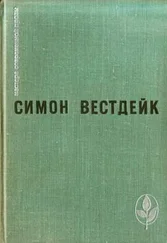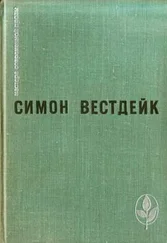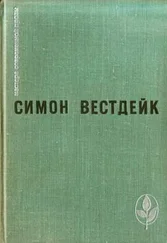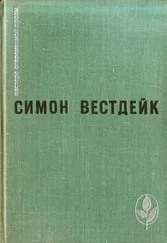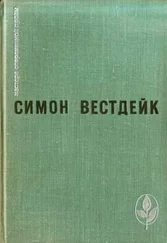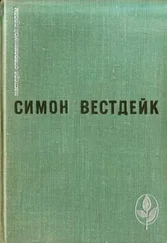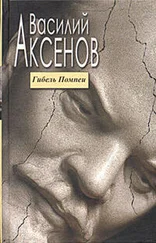Вчетвером отправились они к фермеру, чтобы посвятить его в свои намерения. Он полностью с ними во всем согласился, что объяснялось его безразличием к таким вещам. Обрадованный, что избавится от Яна, Бовенкамп обещал не говорить Схюлтсу ни слова. Дирке тоже пришла в хорошее расположение духа и отдала Яну поношенный костюм ее сына, несшего у оккупантов трудовую повинность. Что касается Кохэна, то он был на седьмом небе от счастья, и, рассказывая им, как он проведет в божественном Амстердаме целых два дня, он впервые вызвал в Хундерике взрыв искреннего смеха описанием кукольника на Даме, который безнаказанно стреляет в мофов.
За чаем их угостили пирогом, густо намазали маслом ломти хлеба — порция на двоих — и завернули их в бумагу; в амбаре в тот вечер шло такое буйное веселье, что о карауле на дамбе никто и не подумал. Единственный, кто вел себя тихо, был Ян ин'т Фелдт, и ему сочувствовали; хоть он и избавлялся от Марии, все же его будущее не сулило ничего приятного. Чтобы его утешить, они предсказывали ему в Амстердаме новые победы над девушками. Не отрицая такой возможности, он все же сидел с мрачным видом, бессмысленно глядя перед собой, и никто не удивился, когда в половине двенадцатого, в самый разгар веселого смеха, острот и анекдотов о Гитлере, он заявил, что пойдет спать куда-нибудь в другое место. И он действительно ушел в конюшню к лошадям, которые по крайней мере хоть помалкивали.
После того как они немного поговорили о Яне ин'т Фелдте, Мертенс сказал, что отныне каждому из них придется дольше дежурить: по восьми часов вместо прежних шести. Но это, добавил Мертенс, единственный ущерб, который им принесет уход Яна. И ему никто не возразил.
Выйдя во двор, Ян ин'т Фелдт остановился, оглядываясь по сторонам. Месяц, давно перешедший в свою вторую четверть, прятался за облаком, и молочный свет озарял двор, выделяя у всех трех видимых строений — амбара, конюшни и дома — одну лишь угрюмую черноту их силуэтов. В этом треугольнике Ян ин'т Фелдт постоял минут пять как завороженный. Опустив голову на грудь, он напряженно о чем-то думал. Потом наконец его невысокая коренастая фигура опять пришла в движение, он направился к конюшне. Вошел туда. Когда через некоторое время он вновь появился на дворе, на нем уже не было ни пиджака, ни брюк, а на ногах только носки. В амбар он не возвратился, не пошел и на канавку, где нелегальные справляли нужду, а, украдкой озираясь по сторонам, направился на цыпочках к гумну. Наружные двери были заперты; он даже не пытался открыть боковую, что вела в летнюю кухню. При теперешнем размахе преступности Бовенкамп боялся взломщиков больше, чем мофов. В последние дни в окрестностях было несколько случаев увода скотины прямо из хлева, а потому фермер стал на ночь запирать скот на гумне, что он обычно начинал делать месяца на полтора позднее. Но Ян ин'т Фелдт недаром в черные дни своей амстердамской жизни якшался с уголовниками, хоть и не принимал участия в кражах со взломом. Открыть низкую, полукруглую раму с наполовину разбитым стеклом ему стоило меньшего труда, чем протиснуться через нее в теплое гумно. Со стороны жилого флигеля дома залаяла собака, но он уже был внутри. Одной ногой он попал в навоз, да так, что его левый носок утонул в нем по самый верх; потом наткнулся на столб, к которому привязали скотину, нашел ощупью дорогу между двух пережевывавших жвачку коров к середине гумна и, не обращая никакого внимания на свой вонючий носок, прокрался к двери, которая вела в жилое помещение, оставив позади себя с правой стороны водопроводный кран, с левой — уборную. Вскоре он уже подымался на чердак, шаг за шагом, стараясь по возможности, чтобы не скрипели крутые ступеньки. На чердак выходили три двери: комнатенки Кохэна, сейчас пустовавшей, комнатки Марии и клетушки Янс. К этой последней он и направил свои шаги.
В половине восьмого утра он вместе с Кохэном переправился через реку. В руках у него был небольшой узелок, у Кохэна — папка, трость и переброшенный через плечо светло-желтый дождевик. Они были удивительно непохожи друг на друга; у Яна ин'т Фелдта не было не только шляпы, но даже фуражки или кепки, и он нередко поглядывал искоса на своего хорошо одетого спутника, такого же гонимого, как и все они, но имевшего вид миллионера, который отправляется в путешествие на своей собственной яхте (а не на этом вонючем пароме, который еле-еле тащится через реку), в собственной машине (а не на своих двоих) и перед которым повсюду угодливо склоняются люди, протягивающие лапу за еврейскими чаевыми, да-да, еврейскими чаевыми.
Читать дальше