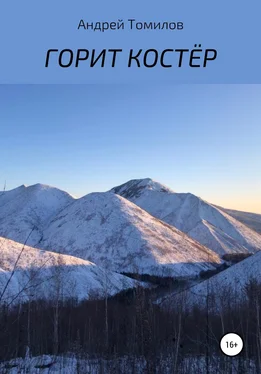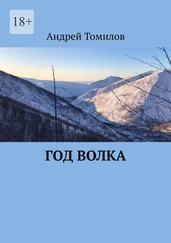Костер все горел, горел. Странно, но я не испытывал желания спать. Кажется, дневная усталость сама по себе отлетела от меня, отлипла. Я сам хотел слушать рассказчика, и он захватил меня, захватил полностью. Подумалось: а ведь Толяныч даже не знает, как меня звать, а вот, откровенничает. А он, будто бы прочитал эти мои мысли:
– Меня ведь на самом-то деле по-другому зовут. Но об этом я расскажу чуть позже. Суд назначили. Старшой мне в тот день две конфетки дал, и только одно слово сказал: – прощай. Я тогда удивился еще, думал, что после суда снова вернусь в привычную уже камеру. Но, конечно же, ошибся. Больше я с тем старшим ни разу не встречался. Суд был выездной, из области. У нас, в клубе. Все пришли. Все. И Любаня пришла. Только уж не выла, не плакала, видно стерпелась за этот год-то. Вот тут, вот с этого места, во всей этой истории начинается самое страшное. Начинается такое, что и рассказать-то по-настоящему не можно, не получится так страшно рассказать, как мне пережить пришлось, довелось. Как это только вытерпеть дается человеку….
Толяныч вскочил, видимо, забыв о своей степенности, аккуратности, лихо, как-то очень привычно, закинул руки за спину, сцепил их там, и зашагал вдоль костра: туда два шага, поворачивается, словно по команде, назад два шага, снова поворачивается. Потом, будто очнулся, руки распустил, стал прежним, легонько, аккуратно присел:
– Приговорили меня к высшей мере наказания. Как сказано в приговоре: к высшей мере социалистической справедливости. К расстрелу…. Любанюшка моя, как только приговор закончили читать, вскрикнула: – я ждать не буду, не думай! – видимо давно заготовила эту фразу. И ей уж и не важен был тот приговор, она только и ждала окончания, чтобы высказать заготовленное. Да, ведь и понятно это, бабы же, что с них возьмешь, на то и бабы. А в зале так тихо стало, так тихо. Только матушка Любанина, вроде и тихонько выронила, но услышали все: – ох, и дура, уродится же такое. – И снова тишина. И до того торжественно все молчали, до того строго. Вытянулись все, будто перед Ним, (при этом Толяныч указал на звезды, не пальцем указал, а всей рукой, и мне это так показалось символично, что я невольно поднял глаза, туда, куда он указал. Хоть и на мгновение, а поднял) даже старухи, совсем согбенные, и те выпрямились, стояли траурно, смирно. Я понял тогда, что жалеют они меня. Хоть и понимают, что дурак, что натворил такое, а жалеют, как своего. Так в этой тишине и вывели меня.
Толяныч и себе налил перепревшего у огня чаю, хватанул пару раз, обжигая губы, горечью обдавая рот, но вряд ли и заметил это, так глубоко он был погружен в свои воспоминания, в свою исповедь.
– Лишь на короткое время попал я в какую-то переполненную, просто забитую людскими телами камеру. Неведомо как, но там уж знали мой приговор, поселили меня в лучшем месте, – если вообще было оно, лучшее место в этой камере. Кто-то старался поддержать меня, кто-то подкормить, кто-то подсовывал мне под голову свою одежку. Но разве это могло хоть как-то компенсировать то, что творилось у меня на душе. Разве могло? Там, от сокамерников я узнал, что расстреляют меня не сразу, как мне представлялось. Нет, не сразу. Процедура эта длительная. «Им» интересно знать, пусть и не видеть, а просто знать, что ты мучаешься, боишься, раскаиваешься, и снова мучаешься каждой клеточкой своего разума, и ждешь. Ждешь этого неотвратимого события, последнего события в твоей жизни. Там же узнал я, что приговоры такие исполняются лишь в трех городах Советского Союза. Так что, не переживай, сказали мне, еще покатаешься в «столыпинских» вагонах по просторам нашей великой и могучей, помыкаешься по пересылкам, пока прибудешь к пункту своего последнего, неизбежного пристанища.
Вскоре меня переселили в отдельную, совсем крохотную камеру, проще сказать не камеру, а просто бетонный мешок. Выдали полосатую куртку, полосатые брюки, полосатую шапочку. Все почти новое. Может и не новое, но стираное, чистое. Нар в этом бетонном мешке не было, спать приходилось на полу, на какой-то крохотной дерюжке. Время для меня замерло, словно остановилось, я перестал его ощущать, перестал понимать, когда наступало утро, а когда опускалась ночь. Я чувствовал, что начинаю растворяться, как бы исчезать из этого мира. Меня, будто бы, с каждым днем становится меньше и меньше. И вот что странно, мне не хотелось так исчезать, мне хотелось (уже хотелось) умереть сразу, целиком. Всеми днями я только и думал о том, как сделать так, чтобы умереть сразу. Как обмануть «их», – умереть самому. Они придут, чтобы исполнить свой приговор, а я уже вот…. Я весь измучился, но придумать ничего не мог. «Они» были хитрее меня и приняли все меры, чтобы я не мог их обмануть. И это осознание бессильности даже в таком простом и очень личном вопросе, выводило меня из себя, я был на грани какой-то психической трагедии, на грани срыва. Казалось еще одна ночь, еще одна, и я просто сойду с ума. Не от того, что я в клетке, к этому уже появилась какая-то привычка, а именно от того, что не могу, не умею убить себя, не умею оборвать эту никчемную, жалкую жизнь.
Читать дальше