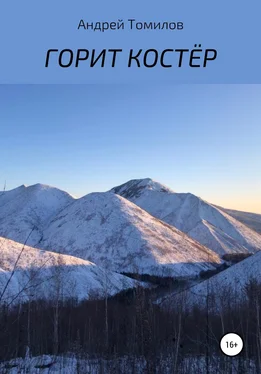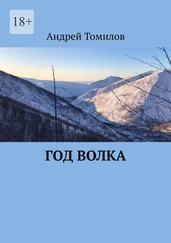Здесь же, возле костра, на чурке стоял черный, годами закопченный чайник, с помятыми боками и изогнутым носиком. Толяныч поднял его, заглянул внутрь:
– А хотите чаю? Я свежий заварю, свежий, со смородиной. – И не дожидаясь ответа, ушагал в темень, на ключ. Ключ, что за зимовьем, никогда не замерзает. Вернувшись, повесил чайник над костром. Движения аккуратны, точны, словно выверены, ни одна капля воды не скатилась, не ударилась в огонь.
– Только к обеду, на другой день меня забрали. Любаня, суженая моя, уже все слезы выреветь успела. Как же мы с ней расстались-то? Как же.… Вот. Расстались. Лишь ночью, перед этим страшным событием, крепко сговорились, что ждать меня будет из армии. Крепко-накрепко. И сразу, как вернусь, так и свадьбу сыграем. Любаня…. Вот тебе и армия получилась. Армия! – Толяныч качался всем телом и сильно клонил набок голову, словно так и хотел надломить себе становую жилу. Тень от него, раскачивающегося в своем горе, металась по ближней тайге, куда доставал свет от костра.
Долго молчал рассказчик, больно вспоминая прожитое, потом очнулся, встрепенулся даже, стал хлопотать. Заварил вкусный, пахучий чай, от которого вкруг костра поплыл смородишный дух, все шире и шире захватывая пространство, подложил несколько поленьев, сдвинул сгоревшие. Обдав кипятком кружку, сплеснул взвар на ближний снег и налил мне духмяного чаю. Чай был так терпок, так необычен, что не хотелось от него отрываться.
Я уж подумал было, что рассказ окончен, но ошибся, внимание мое, от вкусного и ароматного чая, вновь переключилось на рассказчика.
– В эти же дни, буквально в первые, мне исполнилось восемнадцать, и проблем у следствия уже не было: меня поместили во взрослую камеру следственного изолятора. Сидельцы относились ко мне хорошо. Как это ни странно, но к душегубцам во всех наших заведениях относятся с бОльшим уважением, чем ко всем прочим зэкам. Уж простите меня за этот вольный и невольный сленг. Так что жаловаться на то, что меня обижали, принижали, я не стану, трудно, но я привыкал к неволе, да уж привыкал, куда же деваться. То, что я вам рассказал, это ведь лишь самая малая толика той беды, которая случилась со мной, лишь часть погубленной судьбы. Я умоляю вас подарить мне эту ночь, чтобы я смог высказаться, коль уж так приспело, коль так сложилось. Ведь, от того, что человек не может рассказать, раскрыться перед кем-то, от того, что он постоянно замкнут и живет лишь думками своими, – можно и руки на себя наложить. О, если б вы знали, как близок к этой черте я был…. А как трудно от нее отходить, от той черты. Ах, как трудно. Уж вроде и передумал, вроде, решил жить дальше, думки разные гонишь от себя, и, вдруг, идя по дороге, встречаешь обрывок веревки, простой, никчемный обрывок. И лишь один раз и взглянешь-то на него, а он уже оживает, изгибаться начинает, и в петлю, в петлю сворачивается…. А ты стоишь на той дороге, словно вросший, стоишь над обрывком веревки и невольно прикидываешь: а хватит ли длины, чтобы вокруг шеи, да еще на завязку четверть. Другие мысли и не рождаются. Самого дрожь пробирает. Как трудно от этого избавиться, как трудно снова захотеть жить.
Снова забухтел, заухал филин в ельнике, смелее, даже с каким-то недовольством, будто сердился на людей у костра, будто хотел высказать, что ночь, – это его время. Но люди лишь на мгновение отвлеклись, лишь на минуточку. На звезды взглянули, отметив, что они уж заметно переместились, передвинулись относительно темных, неподвижных вершин кедров, да елей.
– Следователь у меня старичок совсем был. То папку с делом не ту принесет, извинится культурно и опять на неделю исчезает. То в отпуск уедет, или болел часто. Почти год следствие тянулось. Единственное, что полезное он для меня сделал, так это сообщил, что батя скончался, и что похоронили его у самого кладбищенского забора, возле крапивы. Чтобы подальше от могилы председателя. А я ему и за эту весточку благодарен. Я себя винил, крепко винил, маялся той виной. Да и теперь еще она мне покоя не дает, не оставляет меня. Человека загубил, он все снился мне, часто снился. Из лужи какой-то вышагнет, обопрется на тросточку и смотрит на меня, укоризненно так смотрит. Не по себе. Старший по камере, седой старик, с огромной головой и узкими, вздернутыми кверху плечами, каждый день мне конфетку давал. Без фантиков. Маленькие такие, подушечки. Ох, и вкусные! Я в жизни больше ничего вкуснее, слаще не едал, не пробовал. Где он их брал? Кладет передо мной конфету, смотрит на меня пристально, так грустно, вздохнет, и, будто себе пробурчит: – ешь, пока можно, пока есть чем. – Я тогда не понимал, да и не мог понять, что значат его слова. Жалко очень, что я запамятовал, как звали того старшого. Кажется, он относился ко мне с какой-то отцовской жалостью. Конечно с жалостью, а с чего бы он стал на меня тратить такие вкусные конфеты. Очутившись на свободе, я много раз покупал такие конфеты, но они были совсем другими, не такие вкусные. Совсем не такие.
Читать дальше