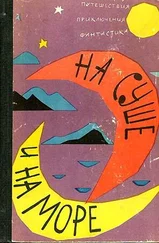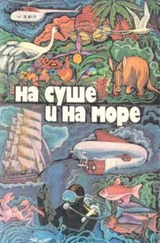– Вперед! Вперед! – подхватили все наши, и даже сам мистер Вордэн.
Мы бежали вперед под градом пуль, приберегая свои выстрелы для решительного момента. Гуроны, сбитые с толку, обратились в бегство. Паника редко охватывает индейцев, но еще реже они соединяются на поле сражения; раз только они побежали, то всегда бегут врассыпную.
Спустившись в овраг, я уже нигде не видел индейцев, но Гурт и Джеп, бежавшие впереди нас и которых мы еще не успели догнать, дали залп, вероятно, по последним бегущим гуронам. В следующий момент раздался один только ответный выстрел, как бы последний прощальный привет, донесшийся издалека, и от этого последнего выстрела на моих глазах упал Гурт. В одну минуту я был возле него. Какой ужас – достигнуть победы и счастья и очутиться во власти смерти! По выражению его лица в тот момент, когда я его приподнял с земли, я понял, что рана его смертельная: пуля прошла навылет, не задев костей, но затронула жизненные органы. Смертельная рана всегда кладет на черты человека свой несомненный отпечаток.
– Этот выстрел был для меня роковым, Корни! – сказал он. – Это, вероятно, их последний выстрел! Я желал бы, чтобы то, что вы мне сказали о Мэри, было неправдой!
Я ничего на это не ответил. Как только Гурт упал, наши забыли о погоне и столпились вокруг него; тогда один Сускезус сознавал, как важно было для нас знать, что намерен делать враг, и хотя он любил Гурта, как и все, впрочем, кто его близко знал, он только на минуту остановился, взглянул на него, и на лице его мелькнуло на мгновение скорбное выражение.
– Плохо, – сказал он Герману Мордаунту, – но скальп спасен! Это хорошо! Несите его в дом. Сускезус пойдет по следу гуронов и узнает, что делают враги!
С тяжелым сердцем двинулись мы с нашим раненым к воротам Равенснеста. Дирк пошел вперед предупредить о печальном событии, я шел возле Гурта, и он все время не выпускал моей руки. За последнее время мы освоились все с видом смерти, и если двое или трое из нас остались на поле брани, остальные не так бы сожалели об их потере, как сожалели мы теперь о потере Гурта. Есть люди, смерть которых почему-то значит для всех окружающих гораздо больше, чем смерть десятка других людей.
Герман Мордаунт распорядился приготовить для раненого свою собственную комнату, где его окружили всеми возможными удобствами. Когда его внесли и положили на кровать, все, кроме меня, вышли из комнаты молча и незаметно, один за другим. Оставшись один с Гуртом, я поймал его тревожный, жадный взгляд, как бы искавший кого-то.
– Я сейчас позову их обеих, – сказал я и встал, чтобы выйти из комнаты. Гурт поблагодарил меня улыбкой и молчаливым рукопожатием.
Я нашел Мэри смертельно бледной, но сравнительно спокойной; ее женское чутье подсказало, что шумное проявление ее горя и отчаяния только ухудшит состояние раненого, и она собрала все свои силы, чтобы подавить это отчаяние.
При первом моем слове о Гурте обе барышни поспешили заявить, что они только и ждали разрешения пойти к раненому и, поблагодарив меня, поспешили в его комнату. Я не пошел с ними, не желая присутствовать при первых минутах свидания. Аннеке впоследствии говорила мне, что Мэри держалась с удивительным самообладанием, а горячие выражения признательности со стороны Гурта и пылкость его речи ввели даже в заблуждение бедную девушку, которая, слушая его, начала думать, что положение раненого не столь безнадежно. Час спустя я вошел к Гурту и у дверей встретился с Германом Мордаунтом.
– Последняя слабая надежда спасти Гурта пропала, – сказал он мне. – Ему осталось всего несколько часов жить! Боже мой! Лучше бы Равенснест был разорен и разграблен дотла, чем случилось это несчастье!
Подготовленный в некоторой степени этими слова Мордаунта, я не столь был поражен страшной переменой, происшедшей в лице моего дорогого друга; несомненно, он предвидел роковую развязку, но это не мешало ему быть спокойным и даже счастливым. Он не был настолько слаб, чтобы не мог говорить, а лицо его положительно сияло радостью.
Причина этой радости было добровольное признание Мэри, признание в том, что она давно и глубоко любит его, его одного, и первого мужчину в ее жизни; после этого он сказал, что умрет счастливым, без горечи, без сожаления. Сам по себе Гурт не думал о будущей жизни, но Мэри не раз беседовала с ним на эту тему, и он слушал ее внимательно, ибо говорила она, а не кто-либо другой. Когда я входил, речь шла как раз об этом.
– Если бы не вы, Мэри, я был бы не лучше язычника, – сказал Гурт, держа в своей руке руку Мэри, с которой он не спускал глаз, – и если Господь примет меня, то только благодаря вам!
Читать дальше