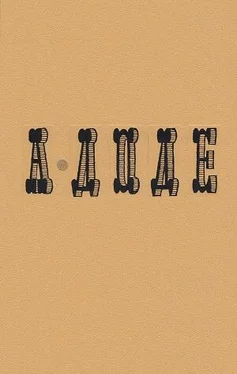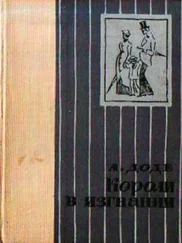Объявление в Taffershall'e, облепившее столбы вместе с другим объявлением, — о том, что в отеле Друо галисийская королева продает свои бриллианты, вызвало некоторый шум, но Париж недолго бывает занят чем-нибудь одним — его мысли следуют за летучими листами газет. Об этих распродажах говорили в течение суток. На другой день о них позабыли. Христиан II не противился нововведениям королевы. После того как он оскандалился, в добровольно принятом им ребячливом тоне, который, как он полагал, должен оправдывать в глазах королевы его проказы, слышалась теперь смущенность, даже униженность. Да и потом, чем, собственно говоря, мешали Христиану нововведения в домашнем быту? Его жизнь, жизнь светская, рассеянная, протекала вне дома. Удивительное дело: за целых полгода он ни разу не обратился за помощью к Розену! Королева это оценила, а еще она была рада, что в углу двора больше уже не стоит диковинный кеб англичанина и что она уже не встречается на лестницах с придворным заимодавцем, не видит его льстивой улыбочки.
А между тем король тратил много — никогда еще он так не прожигал жизнь, как теперь. Где же он брал деньги? Элизе узнал об этом совершенно случайно — от дядюшки Совадона, от милейшего старика, которому он в былые времена внушал «взгляды на вещи», от единственного из своих давнишних приятелей, с которым он поддерживал знакомство после того, как поступил на службу на улицу Эрбильона. Время от времени он ездил к нему в Берси завтракать и рассказывал о Колетте, без которой добрый старик очень скучал. Колетта, дочь его бедного, горячо любимого брата, которому он оказывал помощь, пока тот не приказал долго жить, была его приемной дочерью. Она составляла предмет постоянных его забот: он платил жалованье ее кормилицам, он заплатил за ее крестины, позднее он платил за ее ученье в самом аристократическом из парижских монастырей. Она была его слабостью, его олицетворенным тщеславием, хорошеньким манекеном, который он украшал всеми пошлыми цветами своей не знавшей удержу, вечно бурлившей фантазии выскочки-миллионера. И когда в приемной монастыря Сердца Христова маленькая Совадон шептала дяде: «Вот у этой мать — баронесса, вон у той — герцогиня, а у той — маркиза…» — миллионер поводил своими широкими плечами и говорил: «Мы из тебя что-нибудь получше сделаем». И когда ей исполнилось восемнадцать лет, он сделал ее княгиней. В Париже сколько угодно сиятельных особ, гоняющихся за приданым. В агентстве Льюиса большой выбор таких особ — надо только сговориться о цене. И Совадон нашел, что заплатить два миллиона за то, чтобы посиживать в уголке салона молодой княгини Розен в те вечера, когда у нее бывают гости, за право улыбаться широкой вислогубой улыбкой, проблескивавшей в обрамлении его завитых колечками баков, вышедших из моды со времен Луи-Филиппа, — это совсем не так дорого. Выражение его серых живых, плутоватых глазок — точно такие же глазки были и у Колетты — до известной степени смягчало все то нечленораздельное, неуместное, малограмотное, что пропускали его толстые, растянутые в виде неправильной подковы губы, смягчало взмахи его больших короткопалых рук, которые даже в желтых перчатках все еще помнили, как они когда-то катили на пристани бочки.
На первых порах он робел, упорно молчал, удивлял, пугал людей своим безмолвием. Но позвольте: где же ему брать уроки красноречия? Не у себя же в складе, в Берси, торгуя южными винами с примесью фуксина или сандала. Впоследствии благодаря Меро у него появились готовые мнения, появились смелые суждения, связанные с каким-нибудь злободневным событием или же нашумевшей книгой. Дядюшка заговорил — и в общем недурно вышел из положения, но все же ляпал иногда такие вещи, что от хохота чуть-чуть не падала люстра, и еще этот водонос в белой жилетке приводил в ужас собеседников некоторыми своими теориями в духе де Местра {40} 40 Де Местр, Жозеф (1753–1821) — французский реакционный публицист, противник революции и ярый защитник королевской власти и церкви.
, которые он излагал в весьма красочных выражениях. Но вот в один прекрасный день бывшие властелины Иллирии похитили у Совадона поставщика идей и таким образом лишили его возможности щеголять ими. Колетту удерживали в Париже обязанности фрейлины, — она безотлучно пребывала в Сен-Мандэ, а Совадон отлично знал начальника гражданской и военной свиты и потому не надеялся туда проникнуть. Он об этом и не заикался. Вообразите себе герцога, который подводит, который представляет гордой Фредерике — кого?.. Виноторговца из Берси! И притом не виноторговца в прошлом, а как раз наоборот: такого, который продолжает ворочать делами. Несмотря на свое миллионное состояние, глухой к мольбам племянницы, Совадон все еще торговал; с пером за ухом, со встопорщенным белым хохлом, он проводил все дни на пристани, в винном складе, среди возчиков и моряков, то выгружавших, то грузивших на суда бочки с вином, или под деревьями-великанами обезображенного, поделенного на участки старинного парка, где под навесами стояли рядами его сокровища в виде неисчислимого количества винных бочек. «Как только я застопорю, так сейчас и умру», — говорил он. И в самом деле: он жил стуком катящихся бочек, жил дивным запахом плохого вина, который поднимался из старых подвалов, где помещались его огромные склады, — в одном из таких подвалов сорок пять лет тому назад Совадон начал свою карьеру в качестве бондаря-подмастерья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу