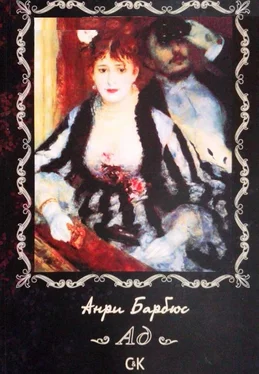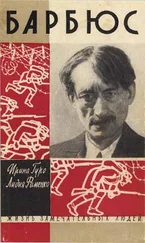*
Потом он говорил о живописи; он сказал, что она имеет объёмность, которая отсутствует у ваяния. Он припомнил невероятное состояние покоя прекрасных портретов и настойчивое воздействие нарисованного лица, которое притягивает взгляды.
Он вздохнул: «Художники несчастны: им приходится все делать заново. Всё зависит от них. Известно ли когда-нибудь, что заключает в себе представленная частица реальности? Нужно слишком много прозорливости для этого. Да, слишком — прозорливости, которая выступает за пределы как галлюцинация. Великие находятся вне природы: Рембрандт имеет видения, как Бетховен слышит голоса.»
Это имя поместило его в мир музыки.
Он сказал, что, хотя музыка и достигла совершенства, другого примера которому нет с того времени, как человек имеет пристрастие к несметным художественным произведениям — благодаря тому же Бетховену, — однако между искусствами существует иерархия в зависимости от сферы мышления, которую они заключают в себе; что литература на этом основании находится над всем остальным: каким бы ни было количество шедевров, созданных ныне, гармония музыки не стоит тихого голоса книги.
*
«Анна, — сказал он, — который в большей степени поэт, тот, кто, в созвучии красивых фраз, передаёт прекрасные образы, которые представляются нам, тревожащие, царственные и торжественные, как цвета при свете дня, или поэт Севера, который, в пустынном и мрачном обрамлении серой местности, при дымной желтизне окон, в немногих словах, — показывает, что лица преображаются и что в тени, разделяющей двух собеседников, имеется единственная бесконечность, которая должна бы быть!
— Они оба правы, вероятно.
— Я, которого всё моё детство тянуло к тем, кто был полон изобилия и солнца, я предпочитаю теперь других, до такой степени, что верю только в них. Цвет пуст, он лишь видимость. Анна, Анна, душа есть птица тьмы. Всё прекрасно; но тёмная красота является первоначальной и материнской. При свете — видимость; во тьме — мы. Тьма есть реальность чуда, которое выражает невидимое.»
Движение, повернувшее его на три четверти, мне отчётливо показало растянутую опухоль его шеи.
«Да, да… — продолжил он, сделав слабоуловимый жест, но который имел своего рода небесную важность, жалкий пророческий жест, — именно в литературе черпают наиболее возвышенное и наиболее полное согласие с тем, что есть; именно она обеспечивает наиболее совершенным образом — почти самим совершенством — награду в виде выражения своих мыслей… Да… хотя Шекспир выказал веяния внутреннего мира, а Виктор Гюго создал такое словесное великолепие, что, начиная с него, всеобщее окружение кажется изменившимся, — писательское искусство не заимело своего Бетховена. Это потому, что вознесение на более высокую вершину здесь по-иному трудно и запретно; потому, что здесь форма есть всего лишь форма и что речь идёт об истине в целом. Никогда не была вложена в великое произведение — второстепенные произведения не существуют — сама истина, остававшаяся до сих пор, из-за неведения или робости великих писателей, объектом метафизической спекуляции или объектом молитвы. Она остаётся закрытой и запутанной в наукообразных трактатах или в жалостливых святых книгах, которые настроены лишь на моральный долг и которые не могли бы быть понятными, если бы их догма не заставляла некоторых признать себя по сверхъестественным соображениям. В театре литераторы умудряются найти формулы развлечения; а то, что в книге, это приёмы карикатуристов.
«Никогда тесно не связывали драму отдельных живущих с драмой всего. Когда же трудно постижимая истина и возвышенная красота наконец объединятся! Нужно, чтобы они объединились, они, каждая из которых объединяют людей; ибо, именно из-за охватывающего нас восхищения, наступают благие моменты, когда нет больше ни границ, ни отечеств, и именно из-за этой истины слепые видят, бедные становятся братьями, а все люди однажды будут правы. Книга поэзии и истины есть самое грандиозное открытие, которое остаётся сделать.»
Они обе были одни у широко открытого окна, через которое виднелось пространство, чья величина притягивала. При полном, спокойном свете осеннего солнца, я увидел, насколько поблекшим был облик беременной женщины.
Вдруг её лицо принимает испуганное выражение; женщина пятится назад до стены, опирается на неё и обрушивается вниз с приглушённым криком. Другая женщина обхватывает её руками; она тащит её к звонку, звонит и звонит… Затем она останавливается, не осмеливаясь сделать ни одного движения, держа своими руками тяжёлую и слабую женщину, находясь лицом к лицу рядом с этой женщиной со взбудораженным взглядом, крик которой, сначала приглушённый и скрытый, возвышается до воя.
Читать дальше