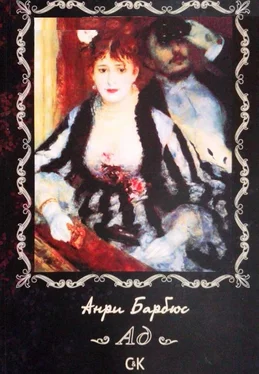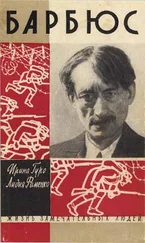…Когда я его вижу вновь, я предполагаю, что он в самом деле скоро умрёт. Он обессилел, его руки на подлокотниках кресла, ладони свешены. Кажется, что он с усилием устремляет свой взгляд. Так как его лицо опущено, свет из окна освещает не его зрачки, а край его нижних век, таким образом, что его лицо имеет какой-то надорванный вид. Смутное воспоминание о том, что сказал поэт, заставляет меня трепетать перед этим человеком, который кончился, который властвует почти над всем своим существованием с ужасающей самостоятельностью, облечённой красотой, перед которой сам Бог бессилен.
Он говорил о музыке.
«Почему, — сказал он, — так захватывает ритм? В середину беспорядочности природы человеческое создание, повсюду, где оно проявляется, привносит свой великий принцип регулярности и монотонности. Только лишь подчиняясь этому суровому закону, произведение, какое бы оно ни было, достигает достаточно высокого уровня и становится прочно обоснованным. Это строгое свойство отличает улицу от долины и возносит лестницу с равными ступенями в горах шума. Ибо беспорядочность не имеет души, а регулярность является мыслящей.»
Затем он стал говорить о пропорции, о гармонии единства. Я слышал лишь фрагменты его фраз, как если бы ветер доносил до меня порывами запах поля или широко раскинувшегося моря.
В дверь постучали.
Это было время прихода врача. Он встал, оступаясь, — расслабленный и побеждённый перед этим мэтром.
«Как дела со вчерашнего дня?
— Плохо, — ответил больной.
— Ну-ну!» — спокойно произнёс вновь пришедший.
Их двоих оставили наедине. Мужчина вновь сел, медленно и со смешной неловкостью. Врач стоит между ним и мной. Он спрашивает его:
«Итак, ваше сердце?»
Инстинктивно, что мне показалось трагическим, они оба понизили тон, и тихим голосом больной делает сообщение своему ежедневному врачу о своём очередном дне болезни.
Учёный человек слушает, прерывает, одобрительно кивает головой. Он прекращает эту исповедь, повторяя, теперь громким голосом, банальное и убеждающее междометие, уже употреблявшееся им, с тем же широким жестом, совершенно так же:
«Ну-ну, я вижу, что нет ничего нового…»
Он подвинулся, и я увидел пациента: черты лица осунувшиеся, взгляд блуждающий, всё заставляет говорить о скорбной тайне его недуга.
Он успокаивается, и беседует с патрицием, удобно устроившимся на стуле с видом добряка. Он затрагивает несколько тем разговора, затем, помимо себя самого, он возвращается, как проклятый, к недугу, к этой пагубной вещи, которую он претерпевает: к своей болезни.
«Какой позор! — говорит он.
— Да ничего особенного!» — восклицает врач скептически.
Затем он встаёт:
«Ну, до завтра.
— Да, до консилиума.
— Конечно. Итак, до свидания.»
Врач уходит лёгкой походкой, со своими кровопролитными воспоминаниями, всем этим грузом страдания, тяжести которого он больше не ведает.
*
Консилиум, вероятно, только что завершился. Дверь открылась. Вошли два врача; мне показалось, что они стеснены в своих движениях. Они остались стоять. Один был молодой человек, другой — старик.
Они посмотрели друг на друга. Я попытался постичь безмолвие их глаз, мрак, бывший в их головах. Более старший погладил свою бороду, прислонился спиной к камину, перевёл взгляд вниз. Он обронил эти слова: «Casus lethalis [24] смертельный случай (латынь).
… и я бы добавил: properatus [25] скоротечный (латынь).
.»
Он понизил голос, из страха быть услышанным пациентами, а также по причине торжественности смертного приговора.
Другой кивнул головой — в знак одобрения — якобы согласия. Оба замолкли, как два виноватых ребёнка. Вновь их взгляды встретились.
«Сколько ему лет?
— Пятьдесят три года.»
Молодой врач заметил:
«Ему повезло, что он дотянул до сих пор.»
На что старый философски возразил:
«Он пожил. Теперь он больше не протянет.»
*
Молчание. Человек с седой бородой прошептал:
«Я почувствовал саркому, при пальпации, непосредственно позади сонной артерии.»
Он указал пальцем на свою шею.
«Это притаилось там, насколько я это рассмотрел.»
Другой покачал головой — с тех пор, как он вошёл, его голова казалась одушевлённой продолжительным покачиванием — и он прошептал:
«Да… операция невозможна.
— Разумеется, — заметил старый мэтр, с глазами, светящимися своего рода мрачной иронией; — есть лишь одна из них, которая могла бы его освободить от этого: гильотина! К тому же, процесс распространения преуспевает. Имеются очаги в под-верхнечелюстных и подключичных узлах и, вероятно, второстепенные. Процесс молниеносный. Три вида путей — дыхательные, кровеобращения, пищеварительные — вскоре будут закупорены; удушение будет быстрым.»
Читать дальше