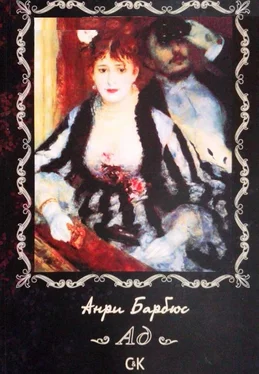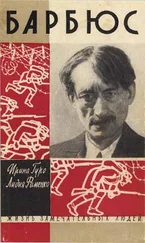*
Он целовал её ладони, нагнувшись к ней. Он её окутывал безразличной и благоговейной тишиной; но, как всегда, я чувствовал, что он был её хозяином…
Она говорила мелодичным и изменённым голосом:
«Я всегда думала о смерти. Однажды я призналась моему мужу в этой навязчивой идее. Он вскипел от ярости. Он сказал мне, что я неврастеничка и что нужно меня лечить. Он обязал меня быть такой, как он сам, который никогда не думал об этих вещах, поскольку был умственно здоровым и уравновешенным.
«Это неправда. Он как раз был болен спокойствием и безразличием: паралич, пьянство и его ослепление были недугом, и его мир был миром собаки, которая живёт, чтобы жить, животного с человеческим лицом.
«Что делать? Молиться? Нет; вечный диалог, всегда в одиночестве, является изнуряющим. Погрузиться в какое-нибудь занятие, работать? Это бесполезно: разве работа не является тем, что нужно всегда делать заново? Иметь и воспитывать детей? Это одновременно создаёт впечатление завершения и бесполезного самовозобновления. Однако, кто знает!»
Это был первый раз, когда она уступала.
«Усердие, покорность, смирение, свойственные матеря, у меня отсутствовали. Возможно, именно это и направляло меня в жизни? Я сирота из-за отсутствия малого ребёнка.»
Опустив глаза, высвободив свои ладони, позволив господствовать материнским чувствам своего сердца, она в течение минуты думала лишь о любви к отсутствующему ребёнку и сожалела о его отсутствии — и не догадывалась о том, что если она и считала его единственным возможным спасением, то лишь потому, что она его не имела…
«Благотворительность? Говорят, что она заставляет забыть всё.»
Она прошептала это, в то время как мы ощущали озноб от дождливого холода вечера и от всех зим, которые были и которые будут!
«О! да, быть доброй! Отправиться с тобой подавать милостыню на снежных дорогах, в большой меховой шубе.»
Она сделала усталый жест.
«Я не знаю.
«Мне кажется, что это неправильно. Всё это безрассудно; это ничего не меняет на самом деле, потому что это неправда… Кто же нас спасёт? Впрочем, мы всё же будем спасены! Мы умрём, мы скоро умрём!»
Она громко добавила:
«Ты прекрасно знаешь, что земля ждёт наших гробов и что она их получит. И до этого не так уж далеко.»
Она остановила свои слёзы, вытерла глаза, стала говорить утвердительным тоном, таким спокойным, что он создавал впечатление заблуждения:
«Я хотела бы задать тебе один вопрос. Ответь мне искренне. Осмеливался ли ты, мой дорогой, даже в скрытой глубине твоей души, сформулировать для себя дату, относительно отдалённую, но точную, абсолютную дату, с четырьмя цифрами, и сказать себе:
«— Каким бы старым я ни дожил до этой даты, я умру — в то время как всё будет продолжаться, и постепенно будут ли пустеющие после меня места уничтожены или заполнены?»
Его взволновала ясность этого вопроса. Но мне казалось, что он главным образом старался избежать такого ответа ей, который бы усугубил её одержимость. Очевидно, что он понимал все эти вещи (среди которых иногда получало отклик, как она сказала, эхо его слов), но он, как казалось, понимал это теоретически, в свете великих идей и философского или художественного пристрастия, отличного от его чувствительности; тогда как она была потрясена и подавлена собственным переживанием, и её рассудок кровоточил.
*
Она осталась внимательной, неподвижной; затем она продолжила, после колебания, тихим голосом, быстрее, с более безнадёжным беспокойством в этом значительном увлечении своей скорбью:
«Знаешь ли ты, что я сделала вчера? Не ругай меня. Я была на кладбище Пер-Лашез. Я пошла по аллеям, затем между могилами, до склепа моей семьи, того, где, отодвинув камень, спустят мой гроб на верёвках. Я сказала себе: именно сюда однажды прибудет моя похоронная процессия, однажды вскоре или нескоро, но однажды несомненно — к одиннадцати часам утра. Я устала, а была вынуждена прислониться к могиле; и вследствие своего рода заразительности тишины, мрамора и земли, у меня было видение моего погребения. Подъём по дороге шёл с трудом. Нужно было тянуть лошадей катафалка за поводья (я это видела несколько раз в том месте). Жаль, что по этой дороге нужно было так взбираться в подобных обстоятельствах. Все те, кто меня знал, кто меня любил, были там, в трауре; и присутствующие, разрозненно толпившиеся между плитами (это глупо, такие тяжёлые камни на мёртвых!), и памятники, которые закрыты как дома в тени этой могилы, имеющей форму часовни, слегка касающейся другой могилы, покрытой квадратом нового мрамора — он будет ещё достаточно новым, чтобы представлять такое же светлое пятно.
Читать дальше