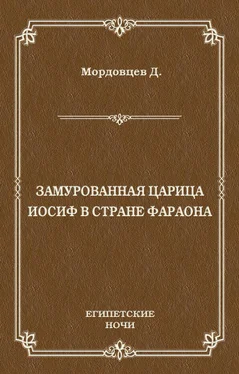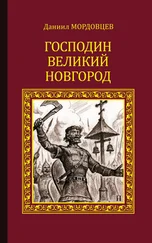Пришельцы, пораженные словами Иосифа, молчали. Они не смели даже переглядываться. Они боялись, что суровый господин примет это за немой уговор. Все ждали, что скажет Иуда, который первый заговорил с Иосифом. Но и Иуда молчал, не зная, что сказать, какие привести доказательства своей правоты.
Иосиф взглянул на Рувима, стоявшего рядом с Иудою. И этого седина преобразила в старца. Запекшиеся от зноя губы его что-то беззвучно шептали, и загорелые руки судорожно сжимали пастушеский посох, столь знакомый Иосифу с детства. Иосиф его слова припомнил. Когда, посланный отцом в Дофаим проведать, здоровы ли братья и овцы, он услыхал, подходя к ним, как они говорили: «Вот идет наш сновидец, убьем его и бросим тело его в ров, а отцу скажем, что его растерзали звери, что тогда станется с его снами?» – то тогда же он услыхал слова Рувима: «Зачем проливать кровь брата?» И этот Рувим стоял теперь перед ним приниженный, убитый… И все эти десять голов, посеребренные сединами, стояли перед ним в глубоком уничижении!
Иосиф все ждал, что скажут они о двенадцатом.
Молчат. Слышно только их тяжелое дыхание.
О, как бы он хотел, чтобы из-за этих десяти поникших голов глянуло на него милое детское личико Вениамина! Как он любил его детский лепет, его порывистые ласки! Он вспомнил, как они с Вениамином, играя на берегу Мертвого моря, бросали прибрежные камушки на его мертвую, словно застывший свинец, поверхность. Ему страстно захотелось видеть товарища своих детских игр. И он принял суровое решение.
– Взять их и заключить под стражу! – сказал он окружающим.
И, сверкая золотою цепью и пурпуром одежды, Иосиф молча удалился во внутренние покои дворца фараонов.
На третий день Иосиф приказал привести к себе братьев. Печальный вид их, душевные муки, отражавшиеся на их изнуренных лицах, мысль об отце, может быть, голодном, тщетно ждавшем возвращения сыновей с хлебом, все прошлое жизни его и вот этих жалких пришельцев, очутившихся среди незнакомой им обстановки, среди чуждого народа, вся горечь старой обиды, горечь, осадок которой весь вытеснен из души умилением и сознанием, что все это миновало, превратив горе в радость – все это вызывало из души его невыплаканные рыдания, слезами подступало к горлу, туманило глаза, хотевшие плакать и плакать!
Но он и теперь задавил все это в себе.
– Я снова говорю вам то, что сказал прежде, – проговорил он сдавленным от волнения голосом, – если исполните то, что я повелеваю вам, я оставлю вам жизнь. Если вы пришли сюда с добрыми намерениями, то обещайте мне привести с собою младшего брата вашего. Я велю отпустить вам теперь же пшеницы, и в залог верности вашей оставлю здесь одного из вас; исполните мою волю – будете живы, не исполните – умрете все.
Выслушав этот приговор, они растерянно смотрели друг на друга и заговорили тихо и робко по-еврейски, на языке Ханаана, вполне убежденные, что грозный владыка земли фараонов, прирожденный египтянин, каким они считали Иосифа, не понимает их.
– Ах, грешны мы перед братом нашим Иосифом… Его скорбь не тронула нас тогда, в Дофаиме, когда мы хотели убить его… Слезы его не тронули нас… И вот теперь за него постигло нас наказание.
Так говорили между собой братья, подавленные отчаянием.
– А не я ли говорил вам: не трогайте, не обижайте детище отца нашего! – с тихим упреком проговорил Рувим. – Но вы не послушали меня, и вот теперь на нас взыщется кровь его.
Долее не могло вынести сердце Иосифа, когда он услыхал родной язык, эту милую речь далекого, золотого детства, речь, которую он уже почти начал забывать, эти звуки Ханаана, эту мелодию вод Иордана, все, что осталось в душе его самого светлого, как бы навеки в ней похороненного.
Он порывисто воротился во внутренние покои дворца и, закрыв лицо ладонями, горько заплакал. Но это была не горечь отчаяния, а скорее сладость умиления, сладость слез, невыплаканных с той минуты, как от него скрылось небо Ханаана.
В этом состоянии застала его Асенефа. Прекрасные глаза ее выразили испуг и смятение.
– Что с тобою, господин мой и супруг мой? – тихо спросила она, с нежной лаской положив руку на его плечо.
Иосиф не отвечал, и слезы из глаз его потекли еще обильнее, просачиваясь между пальцами, на одном из которых сверкал дорогой перстень фараона.
– Боги! Бог Авраама, Исаака и Иакова! Какое горе посетило нас? – подняв руки к небу с горестью воскликнула египтянка.
Потом она обвила одной рукой шею Иосифа, а другой силилась отнять руки мужа от его заплаканного лица.
Читать дальше