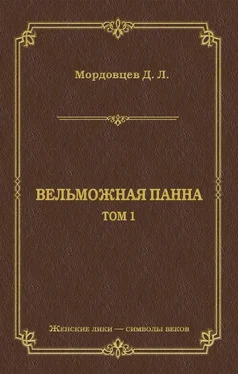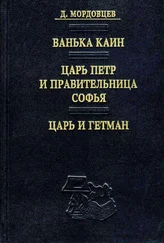О царь и первый русский император Петр Алексеевич! Как бы ты позавидовал бывшей девчонке из Померании, если бы увидел мои корабли в этой бухте, на волнах этого бирюзового моря, здесь вот, где я, откуда рукой подать до Константинополя.
Она подошла к столу, но, видимо, не могла заниматься делами. Одна мысль гнала другую, в душе ее видения прошлого и настоящего сталкивались и менялись, как цветные камушки в калейдоскопе.
– «Оставим астрономам доказывать, что земля вертится вокруг солнца… Наше солнце вокруг нас ходит, и греет, и освещает нас…»
– О, льстивый, ловкий попик! Надо его приподнять поближе к Солнцу, хоть там и холодней…
Она опять задумалась…
– Сколько пережито!.. Какие тернии пройдены в пути, а в корону вплетены одни лавры, только лавры!.. А тернии, что у Христа в венце… Черноморский Петр Третий, Степан Малый, Stephano Piccolo, а тут чума, Пугачев, Тараканова – все мои враги – где вы теперь?.. Где прах ваш? Один Бениовский, слышно, стал королем Мадагаскара… Безумец! Он хотел помериться со мной из Камчатки, а попал на Мадагаскар… Что же! Король Мадагаскара и… Семирамида Севера и Юга…
За дверью послышалось чье-то сердитое ворчанье.
– Ну, достанется мне, – улыбнулась императрица, – Захар опять на меня за что-то разгневался.
Она отворила дверь. Посередине опочивальни с полотенцем на плече стоял знаменитый Захар, известный всему придворному миру, а для искателей у императрицы, для всех сановников «милостивец Захар Константинович» Зотов: в нем заискивали вельможи, статс-дамы, фрейлины, министры, посланники, забывая, что он просто камердинер.
Захар стоял мрачный, как туча, и даже не повернул головы, когда императрица показалась в дверях опочивальни.
– Здравствуй, Захар Константинович, с добрым утром! – ласково, даже заискивающе заговорила Екатерина, силясь скрыть предательскую улыбку.
– Здравия желаем, матушка-государыня, – угрюмо отвечал Захар.
– Ты, кажется, чем-то расстроен? Здоров ли? – с притворной участливостью спросила императрица.
Упрямец уловил в тоне государыни скрытую иронию. Он сделался еще мрачнее.
– Увольте меня, государыня, ежели я вам не угоден, – с комическою горечью сказал он.
– Уволить! – удивилась императрица. – За что же?
– Я вам не угоден стал, – был сухой ответ.
– Зачем же, Захарушка? Чем я провинилась перед тобой? – спрашивала Екатерина.
Захар молчал, укоризненно глядя на ночной столик императрицы, на котором стоял кофейник, спиртовая лампочка и все принадлежности для приготовления кофе.
– Чем же? – повторила императрица.
– А это что? – указал он на прибор. – Должно, Машка поддалась.
– Нет, Захарушка, я Марьи Саввишны не видала.
– Так кто же переступил мне дорогу?
– Это я, Захарушка, кофе себе варила, для скорости, – оправдывалась государыня.
– А разве у русской царицы слуг нет? – мрачно и торжественно спросил обиженный камердинер.
– Да я, Захарушка, не хотела никого беспокоить, – продолжала оправдываться императрица, – думаю, все с дороги устали.
– Устали! А русская царица и устали не должна знать?
– Не должна, Захарушка.
– Ну, так увольте меня!
– Помилуй, голубчик Захар Константинович… На кого же ты меня покинешь?
– Найдутся подлипалы… Первая Машка… Ишь что выдумала! Допрежь сего никто, окромя Захара Константиновича, не смел варить ей кофей… а теперь… на поди!.. Сама… не люб, верно, стал Захар Константинович! Другого нашла…
Императрица не вытерпела и расхохоталась.
– Да, смешно, – несколько смягченным голосом заговорил обиженный, – а мне не до смеху… Скажут… негоден стал Захарка… А что еще это? – Он трагически указал на осколки дорогой фарфоровой чашки, валявшейся на полу у постели.
– Виновата, Захарушка… Прости! Это я нечаянно… пришел мне в голову один стишок в похвалу Крыму и князю Григорию Александровичу, я и хотела записать, да как потянулась за свечой и задела чашечку… Ну, прости великодушно, – смиренно винилась императрица.
– Эх, – махнул рукой камердинер, – на тебя не напасешься посуды… Вон в Киеве разбила, в Херсоне разбила…
Екатерине нравилось такое обращение с нею прислуги. Она любила, когда говорили с нею на «ты» – «матушка», «государыня», «ты», и то, и это. Требовалось это невольно, по чувству самовластия, как бы в противовес той приторной, пересоленной лести, не всегда, конечно, уместной и всегда неискренней, которая неразлучна с придворным этикетом, тошным для свежего человека.
Читать дальше