В это же время Корасао дуз Отрус, далекий от земных превратностей, предавался мечтам. Он по-прежнему жил в том же предместье, в меблированных комнатах, с видом на обширное застроенное пространство между Тодуз-ус-Сантус и Пьедади, с его домами и деревьями. О его сопернике больше не говорили, и печаль Рикардо поутихла.
В те дни его торжество было безусловным. Все в городе питали к нему должное уважение, и он считал, что путь к славе почти завершен. Оставалось получить одобрение Ботафого, но в нем Рикардо был уверен. Он опубликовал уже несколько сборников своих песен и думал об издании нового.
Вот уже несколько дней он редко выходил из дома, готовя свою книгу. Сидя у себя в комнате, он поглощал завтрак — чашка кофе, сваренного самолично, и кусок хлеба. Во второй половине дня он обедал в кабачке у станции. Рикардо заметил, что каждый раз после его прихода извозчики и рабочие, которые ели за грязными столами, понижали голос и подозрительно поглядывали на него, но он не придавал этому значения…
Хотя он пользовался известностью в предместье, ему уже три дня не попадался никто из знакомых. Рикардо и сам избегал разговоров и, встречая кого-нибудь из соседей в доме, лишь обменивался с ними приветствиями. Ему нравилось проводить так день за днем, погрузившись в себя, вслушиваясь в свое сердце. Он не читал газет, чтобы не отвлекаться от работы. Он думал о своих модиньях и о своей книге, которая должна была стать очередным триумфом — его самого и нежно любимой им гитары.
В тот вечер, сидя за столом, он правил одну из последних песен, сочиненную в имении Куарезмы, — «Губы Каролы». Для начала он прочел ее всю, вполголоса, затем взял гитару, чтобы добиться наилучшего эффекта, и затянул:
Что Маргарита и что мне Елена?
С веером легким, ты всех их милей.
Только одно для меня драгоценно:
Губы Каролы моей.
Тут раздался выстрел, потом второй, третий… «Какого черта? — подумал Рикардо. — Наверное, пришел иностранный корабль и устроил пальбу». Он вновь заиграл на гитаре, продолжив петь о губах Каролы, — греза, подслащающая жизнь…
Он уже больше часа находился здесь, в большом дворцовом зале для приемов, видя маршала, но не имея возможности с ним поговорить. Оказаться там же, где маршал, почти не составило труда, но побеседовать с ним было не так легко.
Дворец выглядел уютным — почти что место для отдыха — и вместе с тем представительным и не лишенным изящества. В других залах можно было видеть адъютантов, ординарцев, курьеров, которые дремали, полулежа на диванах, в полурасстегнутой одежде или форме. Все во дворце говорило о небрежности и расслабленности. В углах комнат, под потолком, виднелась паутина; от ковров, если с силой наступить на них, поднималась не выметенная до конца уличная пыль.
Куарезма не смог выдвинуться сразу, как объявил в телеграмме. Следовало привести в порядок дела и найти компаньонку для сестры. Госпожа Аделаида высказала тысячу возражений против его отъезда, живописав риски, связанные со стычками, с войной, — риски, несовместимые с возрастом брата и с его силами. Но он не желал отступать и проявлял твердость, считая необходимым предоставить всю свою волю, весь свой ум, все, что руководило его жизнью и деятельностью, в распоряжение правительства. И тогда… о-о!
Он воспользовался заминкой, чтобы составить памятную записку для Флориано. В ней он предлагал меры для подъема сельского хозяйства и перечислял затруднения, связанные с крупной земельной собственностью, взиманием налогов, дороговизной транспорта, малым размером рынков и политическим насилием.
Сжимая записку в руке, майор вспоминал о своем доме — там, далеко, в углу невзрачной равнины, утыкавшейся на западе в длинную цепь гор, вершины которых четко вырисовывались в ясные, прозрачные дни; вспоминал о сестре с ее спокойными зелеными глазами, о том, как она смотрела на него, уходящего, с неестественной невозмутимостью; но больше всего он вспоминал об Анастасио, о старом негре с его долгими взглядами, в которых теперь отражалась не кроткая покорность домашнего животного, а удивление, испуг и почтение: белки старика едва не вывалились из глазниц, когда он увидел, как Куарезма садится в вагон. Казалось, он предчувствовал несчастье… Подобное поведение было для него необычно, он словно провидел грядущие горестные события… Вот так!
Куарезма, стоя в углу, видел, как в зал входили люди, один за другим, ожидавшие, что президент позовет их. Время было раннее — сколько-то минут до полудня, — и в зубах у Флориано еще торчала зубочистка, оставшаяся с завтрака.
Читать дальше
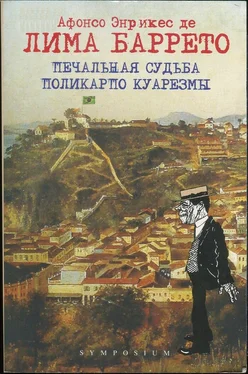
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)






