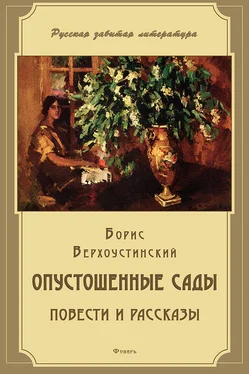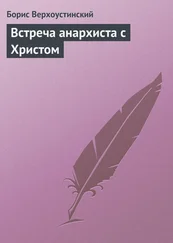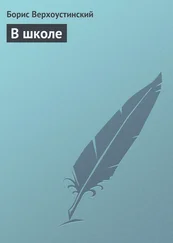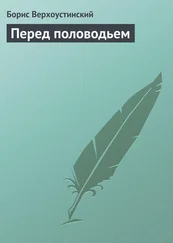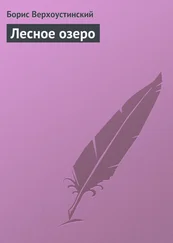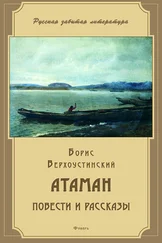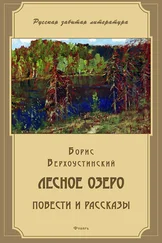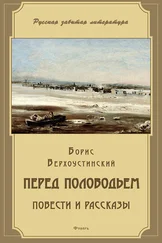— Господи! Сколько народищу!.. Ну, ну, что новенького?.. А я ее мазал, — кивает он головой на Серафиму, немножко акварельничали, страшно устал. Очень мило, что вы заглянули. Как поживаете, генерал?
Он всегда с фон-Книппеном слегка заигрывает, при этом щурится на его шашку.
— Новый анекдот раздобыл, хотел, придя к вам, рассказать, да вот, Алексей Ильич по дороге разобидел, говорит: я их не выношу, — а я его и не просил выносить, ибо анекдот не окурок, я же не пепельница. Ха-ха!
— Человек несчастнее пепельницы, — гудит Долбня, — он пустеет лишь тогда, когда разбивается.
Начинаются длинные разговоры. Тихий Ужас ссорится с Долбней…
— А знаете, — улыбается Ковалев, — чем я теперь занимаюсь?
Он оглядывает все общество и останавливает ласковый взор на Рогнеде.
— Я заинтересовался вопросом, что такое мысль, и, так сказать, опытным путем анализирую ее… Удивительно интересно! Однажды, это было года четыре тому назад, со мною произошла душевная катастрофа, и тогда в короткий, как молния, момент, я почувствовал, что малейший толчок, тихое дуновение — и я сорвусь… Было такое чувство, словно бы стоишь на острие грани, по одну сторону которой здравый разум, по другую — безумие… Да… И тогда мысль от меня ускользала.
Горничная вносит самовар и ставит его на стол. Пелагея Евтихиевна и Серафима хлопочут, выкладывая из банки варенье и нарезая рассыпчатый каравай, которыми Пелагей Евтихиевна славится.
Рогнеда удивленно смотрит на Ковалева.
— Мысль, мысль… Но что же такое мысль, — ведь, ее можно познавать только по проявлениям, а не в самом процессе зарождения. Вы что-то странное говорите, Георгий Глебович. Я вас не понимаю.
— Ну да! — волнуется Ковалев. — Это очень трудно определить словами… Но на днях я почти реально ощутил мысль. В период полного оскудения, полного упадка, я лежал у себя в кабинете на диване и собирался заснуть, вдруг в голове что-то стремительно пронеслось, и я с ужасом почувствовал, что теряю мысль, что она выходит из подчинения мне и принимает уродливые, недисциплинированные моею волею формы. Я ее видел то безумно быстро несущимся камнем, то прыщавою отвратительною жабой. И я крикнул в соседнюю комнату Серафиме, что я схожу с ума.
Ковалев мечтательно улыбается, глядя на Рогнеду.
Фон-Книппен звякает шпорами.
— А ведь вы, Георгий Глебович, тю-тю, обдекадентились.
Тихий Ужас фыркает, но ничего не говорит.
— Пустяки, — зевает Алексей, — ты, Жорж, не спишь по ночам, вот потому и видишь жабу. Когда я был в белой горячке, так видел зелененьких чертиков, очень похожих на Книппена, ловил их и давил. Забавно было, да сдуру меня скоро вылечили.
Фон-Книппен опять звякает шпорами.
— Успокойтесь! Если вас лечили не палкою, то выздоровление не полное.
— Дельно отмочено! — гудит Долбня.
Рогнеда строго взглядывает на Алексея, он ежится и замолкает.
— Прошу, господа! — зовет Пелагея Евтихиевна к столу.
За чаем разговор возобновляется.
— Вообще, мне кажется, что личность и мысль слабо связаны между собою. Разве вам никогда не приходилось бежать, закрывать лицо ладонями, скрываться от собственной мысли? Или тихо-тихо подкрадываться к ней, как к таинственной Жар-Птице, чтобы схватить ее за хвост и похитить хоть одно лучезарное перо?
Ковалев сидит против Рогнеды и обращается, главным образом, к ней; его лучистые глаза сияют кротко и радостно, и ей за него обидно зачем, зачем он говорит все это при фон-Книппене, Долбне и Тихом Ужасе, когда они выйдут от него, они будут над ним же смеяться — обдекадентился… тю-тю!
— Вы мне покажете потом, Георгий Глебович, ваши новые этюды?
Ковалев тускнеет, в углах рта образуются складки.
— Хорошо, с удовольствием… Только — все дрянь, все дрянь.
Ваза с вишневым вареньем быстро опустошается, ломоть за ломтем съедается и сладкий каравай, — у Долбни неукротимый аппетит. Фон-Книппен выпивает только один стакан и затем откидывается на спинку стула, незаметно для других строя глазки Рогнеде. Она сдерживает свой гнев: глупо вступать с этим хлыщом в объяснения!
Розовая Серафима тщетно пытается завязать с кем-нибудь разговор. На нее все давно привыкли смотреть, как на хорошенького болванчика, милого, доброго, но всегда одинаково мотающего головой. Один Долбня считает своим долгом отпустить ей несколько изысканных комплиментов:
— Ваше варенье, что картечь, пробивает броню моей алчбы.
— А не пересахарено?
— Нет, а буде и так, то только к лучшему.
Читать дальше