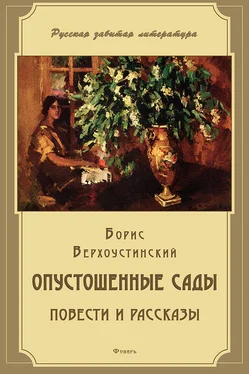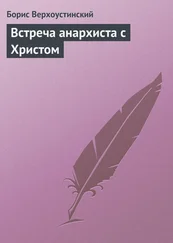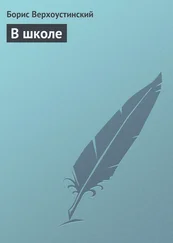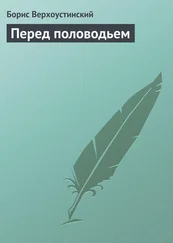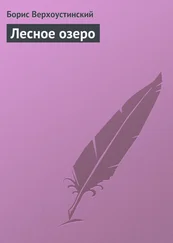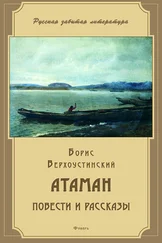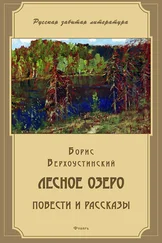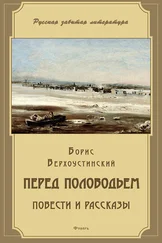— Ты спишь, Серафима?
Серафима открывает заспанные глаза, жмурится и потягивается. Тело у нее белое, упругое, плечи овальные, а шея слегка припухлая, с заманчивыми складочками.
Он зажигает висячий розовый фонарь, гасит принесенную из кабинета лампу и раздевается.
— А я читал, Серафима. Ты давно заснула?
— Нет, недавно.
— Подвинься немножечко к стене.
Серафима, блаженно улыбаясь, подвигается.
Ковалев целует ее и в плечи, и в припухлую шею, и в привычные губы…
После поцелуев разговор:
— Кончила с капустой?
— Да, Геша, я нынче закупила две сотни кочанов; капуста хорошая, белая.
— Так. Ну, давай спать. Спи, милочка. Я уж останусь у тебя, а в кабинет не пойду.
Воцаряется тишина, только на улице бушует осенний ветер, как старый бесхвостый черт, злобно пытающийся сдуть в одну темную кучу все дома. Не удается старому ночному черту, сильнее злится он, дует яростнее и в бессильной злобе дико воет по-волчьему.
…Спит и Рогнеда в своей спальне со старою пани и видит сон, будто она стоит в костеле, украшенном золотом. В черном платье она и в черном вуале, и с головы ее траурный креп ниспадает на старинную мозаику пола. Певуче рыдает орган, но кто играет, не видит она, погруженная в молитву, в сладостное оцепенение. Только знает, что косыми лучами входит солнце через стрельчатые переплеты готических окон; только слышит она, как юноша-ксендз говорит нараспев торжественные слова латинских гимнов. И она опускается на колени и предается страстной молитве. И уже звенят, как медь римских щитов, победные звуки гимнов, а певучий ропот органа растет, ширится, крепнет.
— Рогнеда, вставай!
Со страшным грохотом рушатся золотые, убегающие ввысь колонны.
— А?.. Что? — в диком страхе поднимает Рогнеда голову с подушки. — Вам чего?
Старая пани будит ее:
— Не опоздай, Рогнеда, на урок, пора вставать.
— Сейчас, мамочка.
Она опускается обратно на подушку. Сердце испуганно трепещет в груди, а из черных глаз еще не иссяк недавний ужас.
В окно спальни заглядывает серый, холодный день. Пора на работу.
Каждым вечером они видятся друг с другом. Чаще приходит Ковалев к Рогнеде. Он засиживается у нее до глухой полночи. Они вместе читают или она ему играет на пианино его любимые пьесы, и ей нравится, что полонез Шопена, пламенный и полный черной скорби, он любит так же, как и она.
— Играй же, Рогнеда, играй! Когда из-под твоих пальцев вылетают эти бурные звуки, ты точно преображаешься вся, — я слышу, как рыдает прекрасная женщина, нация, истерзанная в беспрерывных кровопролитиях. И тогда ты…
Ковалев целует Рогнеду в лоб:
— Играй же, Рогнеда, я так люблю тебя слушать.
И она идет. Она садится за пианино, быстрые пальцы стремительно пробегают по клавишам.
С лязгом сверкающих сабель, с надменными возгласами входят беспечные ляхи. Открывается шумный пир. Слышен звон заздравных кубков. А потом — все смешалось: ржут кони, пляшет огненный вихрь и льется кровь на землю, на безумные лица, в ревущее пламя… Хрипло стонет посаженный на кол юноша-рыцарь, размахивая обрубленными по локоть руками. И вот — уже тихо, по тихому полю скачут окровавленные всадники, изредка перекидываясь спокойными словами…
Струны замолкают.
— Как я тебя люблю, Рогнеда. Удивительно нищенски жалок наш язык: ну как мне рассказать тебе все, что я чувствую, чем живу. Слова — это железные прутья темницы, напрасны усилия: решетка крепка, темница глуха… Запри дверь, Рогнеда.
— Зачем?
— Так… Я хочу. Неприятно, что твоя мать или Профессор каждую минуту могут войти.
— Да они давным-давно спят.
— Ну все-таки…
Ковалев встает с дивана и сам дважды повертывает в двери ключ. Обнимает Рогнеду, подводит ее к дивану, она садится к нему на колени и нежно обвивает его шею руками.
— А я, Георгий, иногда боюсь-боюсь моей любви. Мне очень страшно. Ты такой глубокий, сильный духом человек, а я что?
— Ты моя милая, любимая Рогнеда!
От близости ее девственного тела, он пьянеет, его губы жадно ищут ее губ и сливаются с ними.
Он грубо схватывает ее и роняет на диван. Глаза разгораются, а бледные щеки наливаются румянцем.
— Отдайся! Отдайся мне, слышишь?
Он это произносит кричащим шепотом, кричит сдавленным до боли криком. Лампа на столе светит тускло. Обнаженная шея Рогнеды зовет к знойной телесной радости.
— Нет, милый, нет, не надо!
— Ты боишься, да? Чего ты боишься? А-а, ты боишься!
— Нет, нет…
Читать дальше