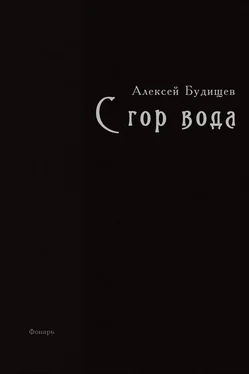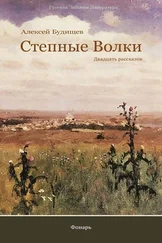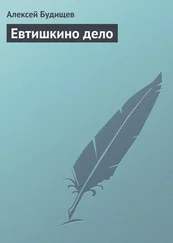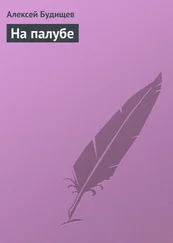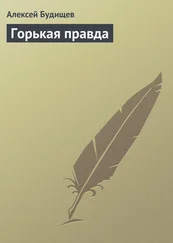Трофим-маленький, вытягиваясь в коломенскую версту и пытаясь заглушить Назара, бодрым и звонким, как осенний ледок, голосом выкликал над ухом Столбушина:
— Ты мне сколько на сегодня отвалил? Триста монет? To есть сотню трюшен? Так? Дай руку! Голубь! Вот спасибо тебе! Хуть этого для меня даже, пожалуй, много! Мне, главное, надо прикупить двух телок! Я их давно уж присмотрел в Ипатьевском гурту! Одну пегенькую, другую сиво-бурую! Друг! Милый! Ведь эти же телки через год, глядишь, коровами будут! Так? А чего мне яровая солома стоит? А? Спасибо тебе! Спасибо!
Под заливчатый хохот гармоники девки только что сложенную песню пели:
У Столбушина Степана,
Ба-а-тю-шки.
Полны золотом карманы,
Ма-а-ту-у-шки!
И Столбушин слушал и Назара, и Трофима-маленького, и девок. И о чем-то думал и тянулся к водке. Затем, подперев правую щеку ладонью, он вдруг горласто, по-мужичьи, запел во всю грудь:
Когда я был сла-а-бодный маль-чик…
Но, не допев до конца песни, свалился на полушубки и заснул. Не расходившаяся толпа долго еще рассматривала сонного, пьяного Столбушина и вполголоса переговаривалась о сказочном вечере. А затем понемногу уставшая деревня разошлась по домам. Остались ночевать возле Столбушина, там, где он свалился на полушубки, лишь четверо: Назар, Трофим-бондарь, Трофим-маленький да востроносый мальчишечка. Столбушина бережно прикрыли тулупом, осторожно сняв с него сапоги.
Но он вскоре проснулся от необузданного, вывертывавшего все его внутренности припадка рвоты. Чуть-чуть раздышавшись после припадка, совершенно протрезвившись и с взмокшим лбом он говорил оставшимся с ним:
— Я скоро помру… Слышали: помру. И что если я все свои состояния березовскому крестьянству оставлю?..
Он снова заснул, но вскоре вновь проснулся с мучительною болью в желудке, с острой резью в сердце. Он сел на полушубки, обул на ноги свои сапоги и, раскачиваясь из стороны в сторону, долго сидел так, томясь болью, с бурными вихрями дум в голове. Порою злобно цедил сквозь зубы:
— Никому ничего не отдам! За что? Лучше испепелю!
Темные облака дымились кое-где в небе, и слышалось храпенье спящих возле.
«А Ингушевича я ненавижу! — как крик, пронеслась в его мозгу мысль. — Ненавижу Ингушевича!» Он припал головою к полушубку, крепко пахнувшему избой, и со стоном, крутясь от боли, звал Назара.
— Назар, а Назар! Назар! — стонал он жалобно.
Но Назар не слышал его и тяжко спал под своим полушубком.
«Никто меня не слышит», — думал Столбушин.
Он снова привстал, сел в прежней позе и вновь стал раскачиваться. Сверлящие, как зуд тонкой пилы, стоны неслись из его груди и умирали без отклика. Молчала прекрасная синеглазая ночь, гордая, занятая своими священнодействиями, равнодушная.
Под утро, когда: узкая алая полоска зарделась над просветленными буграми, черная, как уголь, дума заглянула в глаза Столбушина. Все еще раскачиваясь от боли, он процедил сквозь зубы:
— Ага!
И тут же подумал, точно спросил:
«Все в моих руках? Все?»
И, бессильно, упав на полушубки, полузабылся в темной и душной дреме. Сквозь дрему эту чуть слышно стонал и думал:
«За что ж это меня казнят? Распиливают надвое?»
Возвратившись домой, Столбушин сказал жене:
— Духовной я не сделал.
— Как хочешь, — ответила та и пожала плечами.
«Как хочешь? А зачем глаза рассердились?» — подумал Столбушин.
После недолгой паузы он сказал:
— Да ты не бойся, я через две недели опять в город поеду. Тогда все оформлю.
— Как хочешь, — снова повторила жена.
Через две недели Столбушин действительно вновь поехал в город, но и на этот раз, поговорив лишь с нотариусом, он духовной не сделал. Два дня он поджидал, что Валентина Михайловна спросит его о результате этой его поездки, и горел от какого-то еще нового для него злорадного чувства. Но Валентина Михайловна по этому поводу не обмолвилась даже и легким намеком. И это опять-таки его рассердило. Потеряв всякую надежду дождаться от нее расспросов по этому поводу, он наконец не выдержал и однажды за вечерним чаем сообщил ей, злорадствуя своему обману:
— А я ведь духовную-то сделал! Оставлю все тебе одной! Слышала?
И пытливо глядел в ее глаза. А Валентина Михайловна думала в эту минуту:
«Что мне ему сказать? Поблагодарить — гнусно. Промолчать совсем — тоже как будто нехорошо! Что же мне ему сказать?»
Растерявшись посреди противоречий, она кончила тем, что и теперь уныло повторила:
Читать дальше