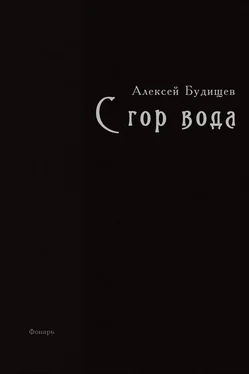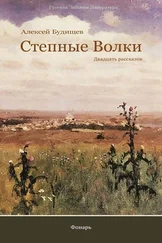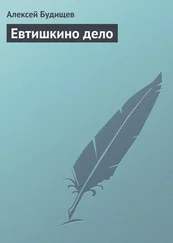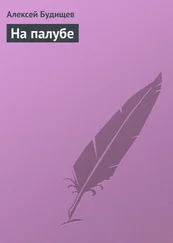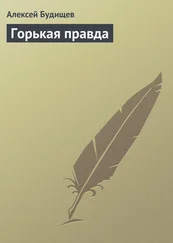— Казус, — разводил нотариус потными, лоснившимися ладонями, — почти исторический казус!
— Казус! — жалобно восклицал Столбушин. — Казус! А у меня от этого казуса кровью мозг застилает, когда я только подумаю, кому я должен оставить все сооруженное мною здание! Кому? За что? С какой стати?
— Гербовые марочки надо будет купить, пока лавочки не закрыты, — вскользь заметил нотариус.
— Гербовые марочки, гербовые марочки! — с горечью воскликнул Столбушин, переваливаясь к нему и возбужденно хлопая его по коленке. — Побери дьявол все гербовые марочки!
Его мозг действительно словно застилало кровью, и гневным удушьем томило сердце, царапало грудь.
— На цугундер меня, стало быть, тащат, на цугундер, — выкликал он тоскливо, — кричат в уши: «Пиши духовную, издыхающий пес! Откажись от всех своих житейских благополучий!» В пользу кого отказаться? Для какого случая? Что-с?
Однако духовной на этот раз Столбушин не совершил. Посовещавшись с нотариусом о кое-каких формальных подробностях, он сказал:
— А ради духовной я к вам как-нибудь еще раз после заеду. И тогда все в лучшем виде оформим!
И приказал подать себе лошадей, чтоб ехать обратно домой. Никифор форсисто подал щегольскую тройку. Столбушин уже поджидал его на крыльце и стоял, облокотясь на перила, сгорбившийся, жалкий, словно разбитый на ноги. Молча, ни на кого не глядя, сел он в коляску, будто замерзнув среди своих колючих дум. И только когда проехали уже верст пять, он вдруг резко крикнул Никифору:
— В Березовку!
— В Березовку? — с недоумением спросил Никифор, точно не веря своим ушам. И подумал: «Перед смертью всю свою родню навестить задумал!»
О болезни Столбушина давно уж знали все в усадьбе.
Он повернул тройку с столбовой дороги на узкий, полузаросший подорожником проселок. И тронул вожжи.
Солнце близилось уже к закату, когда показались кривые улицы Березовки. Сейчас же у околицы попались бабы с водой, дьячок с удилищами на плече и галопом прыгавший мальчишка в коротеньких штанишках; в корзиночке, с какими бабы ходят за грибами, он волок по земле черного с белым ухом щенка и кричал о себе на всю улицу:
— Я зелебец! озолной зелебец!
И ржал по-лошадиному.
— К Назару Столбушину, — приказал Столбушин кучеру.
Коляска остановилась в коротенькой боковой уличке у темной, взлохмаченной хаты. Худенькая девочка, по виду лет десяти, стояла у самой завалинки и, вся как-то отвалясь назад под тяжестью, поддерживала на своем животе рослого полуторагодовалого младенца.
— Назар дома? — спросил ее Столбушин, не выходя из коляски.
— Не, тятька на кузнице, — сказала она плаксиво. — Не…
Лошади тронулись дальше. Девочка с ребенком на руках с какой-то испуганной поспешностью, захлебываясь, сказала подскочившему к ней мальчишке, тому самому, который возил в корзинке белоухого щенка:
— Это — тятенькин двоюродный брат, кой в коляске-то! Пра! Ей-Богу, пра! Пра!
— Ну? — испуганно переспросил и мальчишка, тараща глаза.
— Пра! Ей-Боу, пра, Боу-пра, — совсем захлебнулась девочка.
Сцепясь с мальчиком за руки и круче откидываясь назад под тяжестью младенца, девочка побежала с ним к кузнице, где остановилась коляска. С разных концов улицы туда уже спешил народ, мужики и бабы, парни и девки. Вид у девочки был озабоченно-сердитый, а шустрый мальчишка по дороге попробовал играть.
— Я зелебец, а ты кобыя! — сказал он, пробуя пуститься галопом, еще более утруждая девочку.
— У-у, стрешный! — огрызнулась на него девочка совсем не по-детски сердито. — Стрешный, пропади пропадом!
Когда дети подбежали к кузнице, Столбушин сидел возле на широком пеньке, окруженный целою кучкой народа. Впереди всех стоял Назар Столбушин, кузнец, высокий, сухопарый и черноволосый, с расстегнутым воротом и в распоясанной рубахе. Он что-то живо говорил своему двоюродному брату и по привычке резко жестикулировал руками. Между ним и старой бабой Перфилихой, знавшей Степана Столбушина с младенческих лет и потому взиравшей на него почти с благоговением, протиснулся востроносый, с облупленными от беспрерывных купаний щеками, парнишка. Этот рассматривал Столбушина, как невиданного зверя, жадно, не отрывая от него глаз.
Прибежавшие дети втиснулись тут же в общую кучу. Назар Столбушин громко говорил, отрывисто и резко, точно переругивался, и жестикулировал кистями рук:
— Милый, родной наш! — говорил Назар, точно ругался. — Ведь она померла у меня. Жена-то! Как же. Год тому назад померла! Год! Теперь у меня Машутка вместо хозяйки-то! Беда, чистая тебе беда! Понимаешь, плакал я об энтой самой бабе, вот какая она у меня баба была! Жена-то! И-и, Господи!
Читать дальше