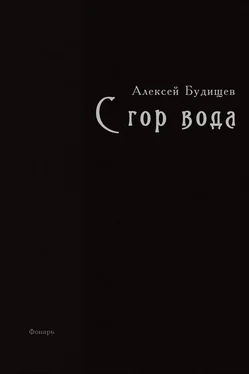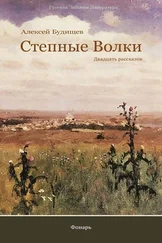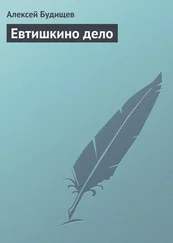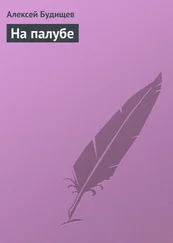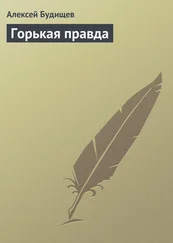— Смешно очень было.
И угарно добавила, цедя сквозь стиснутые, бисерные зубы:
— Один ты люб мне! Ты один у меня!
Тяжко вздохнул казак, ни одного слова упрека на языке своем не нашел он больше.
А через неделю опять напросились оба казачка с Тахою коз попасти. И она опять и тому и другому один и тот же час назначила:
— Перед закатом.
Первым к ней Лешка Гвоздев пришел в розовой рубахе, в синих ситцевых шароварах, с красным лампасом, босой и распояской, но шашку через плечо вздел. Поглядела Таха, — и Гаврилко босой, но в шашке, идет. Так и раскололась она сверкающим хохотом, чувствуя веселье, и стала поддразнивать и подзадоривать казачат. Запалились те, и сперва стали кулаками друг на друга помахивать, а потом выхватили шашки и шашками начали рубиться. Оба позеленели даже. А Таха стоит, ест вишни, которые они ей в дар принесли, и хохочет. Увидел их драку из-за бугра Яков Попов, закричал на них грозно и к ним вприпрыжку побежал. Но не поспел ко времени. Поцарапал шашкой Лешка Гвоздев Гаврилке шею под левым ухом. И через девять дней умер он от заражения крови. Похоронил сына Яков Попов, но не погнула и эта черная напасть крепкого казачьего стана.
Оправдывалась и плакала перед ним Таха.
— Никого мне не жалко. Одного тебя люблю я и одного тебя жалею. Пусть хоть все перегрызутся из-за меня насмерть. Что мне? Один у меня ты!
И жгли ее слова, как солнце землю в дни жатвы пшеницы.
Три ночи не смыкал глаз Яков Попов; думал: как вернуть себя в каменный уклад, в сундук с железною крышкой?
Надумал будто бы правильное дело и, не мешкая, пошел пешком с красного холма к Черному морю, в Новоафонский монастырь. Думалось ему: отчитают его ушедшие от мира иноки и вернут снова под железные обручи, в каменный столп.
В две недели честь-честью отговел он там, отмолился за всю жизнь казачью, с вечера до полуночи трижды в пещере Андрея Первозванного голыми коленями на камне простоял и бодрый назад к Дону пришел, на красный холм. И, казалось, еще горделивее выпрямился крепкий стан. И смелее будто бы глядели острые глаза.
О всем виденном им и пережитом в этом путешествии, о чем только и можно было сказать, в двух словах передал он Прасковье Дмитриевне:
— Сено там много хуже нашего, — темноватое и крупное.
И больше ничего!
Но увидел с глазу на глаз Яков Попов Таху, и забыл все. Спалило синее пламя наставления инока за один миг. Завели его снова лучистые, радостные очи из-под завещанного дедами уклада в незнаемые чертоги, с душу захватывающими коридорами, с темными пропастями, с радужными арками. Стонал часто в бессонные ночи Яков Попов, скрежеща зубами, и думал:
«Зачем грех этот сладок, как, плоды с древа райского? Кто так устроил это?»
И плакал старый казак, как казачишка безусый, необстрелянный. В трудные минуты жизни любил Яков Попов еще загадывать по Библии или по Евангелию. Так было, когда он в безводную степь коня своего обряжал, так было и перед походом в туретчину. Прибег он и сейчас к этому последнему средству. И вышло ему из пророка Амоса: «И он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтоб потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом: не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись».
Принял это старый казак, как железную угрозу, как пламенное заклятие, как гневное наставление вернуть его на дедовскую стезю.
И земно преклонил он голову свою. Сказал:
— Да будет воля Твоя!
И выпало ему из Евангелия от Матвея:
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя».
Подумал старый казак с тоской смертной:
«Если и оба глаза мои вырву, не отпадет от нее распалившееся сердце».
Но земно преклонился и тут он и снова сказал:
— Да будет воля Твоя!
И по ночам нашептывал, как в столбняке:
— Надо исполнить.
И повторял за трапезой, полдничая ботвиньей с воблой волжскою:
— Исполнить надо…
Пошел он к Тахе, когда та коз на красном холме пасла, и сказал ей твердо, весь напрягшись, точно он подкову железную ломал:
— Вот что я непреклонно надумал, Таха.
— Что, любый мой?
— Переведу я на твое имя в Царицын тысячу монет. Слышала? И тебе вид на жительство выхлопочу…
— Зачем? — спросила Таха.
— В Царицыне ты должна жить, — сказал Яков Попов.
— А ты где?
— А я… здесь останусь, — выговорил казак трудно.
Остановились глаза у Тахи. И тихо стало вокруг. Только за Доном жеребцы ржали, да отлетающие журавли в бирюзовых небесах печально перезванивали, курлыкали, да паутина на виноградной лозе серебряной нитью мигала, светила уходящему лету. Вскрикнула вдруг страшным, надорванным голосом Taxa:
Читать дальше