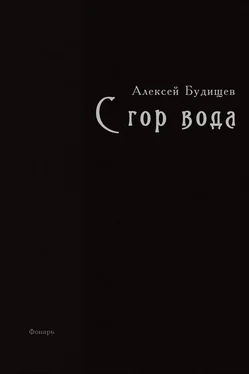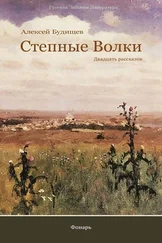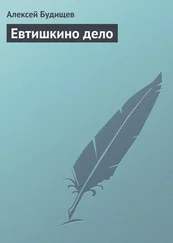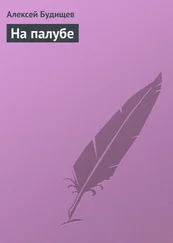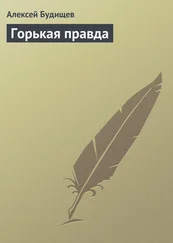— Свинья ты! А я еще для безвредности в пистолеты… двойную порцию… пороха… А ты?
— Что? — переспросил Илюша, вдруг точно что-то сообразив. — Ты зарядил пистолеты двойным зарядом пороха? Ты? Да? Болван!.. Так это ты испортил мне выстрел!
Он сморщил лицо, закусил губу, часто-часто заморгал. Топыря руки, беспорядочно говорил Богавуту:
— Я не виноват! Убей меня громом! Я не хотел! Вот этот болван испортил мне выстрел! Простите меня! Я не буду! Я не хотел!
А Богавут безмолвно раскачивался.
XII
Богавут лежал у себя во флигеле на постели, накрытый до горла одеялом. Рядом на стуле сидела Надежда Львовна и широко раскрытыми испуганными глазами смотрела на его багрово-красное, словно переполненное кровью, лицо, на его сильно заострившийся нос. Вздрагивая, говорила ему:
— Сейчас приедет доктор. Сейчас, вот сейчас!
Но он не видел ее, не слышал. Не чувствовал.
Скрипя зубами, порою выбрасывал бессвязные фразы:
— Я всегда стоял за жребий! Считай папиросы! Не надо расшатывать волю!
Лидия Ивановна стояла тут же и капала себе в рюмку валерьяновые капли. Думала: «И я непременно расхвораюсь теперь: мне вредны всякие волнения…»
Слышно было, как на дворе, неподалеку от окон флигеля, перекорялись Илюша и Кофточкин:
— Я ни при чем. Я дуэль обезвредил, как знакомые артиллеристы. Я их на суд вызову свидетелями! Я за тебя не ответчик!
Сердитый, шипящий голосок огрызался:
— Нет, ты — всему виной, ты и ответишь! Зачем закатил двойной заряд пороха? Я целил в щиколку. Я под присягой так покажу! Пуля ударила в живот от двойной отдачи, от двойного заряда пороха. Ты ответишь! За это за самое!
— Будь ты проклят, свинья! — плакался голос. — Будь сто раз проклят!
— Симметричный болван! — шипело в ответ.
— Я со счета сбилась, — жаловалась плаксиво Лидия Ивановна, — накапала капель неизвестно сколько. Недоставало, — еще отравишься! Надя, помоги же мне! Это все твои амурные куролесы! Ох, каждый год, каждый год! Надо же меру знать!
Богавут глухо и отрывочно выговорил:
— Я не изменник! Врете! Я имел право на отдых!
Надежда Львовна виновато бросалась от его постели к матери и обратно. Защищалась от укоров матери:
— С ним у меня решительно ничего не было! Вздор! Илюшка насочинил все!
Голос дрожал, сбивался.
В мыслях ее тоскливо проходило: «Стоит жить?»
Лидия Ивановна пила капли и тихо выговаривала:
— Что о тебе в городе говорят? Подумай сама! О-ох! Отчего муж твой запил? И ты все не уймешься!
И снова тяжело вздыхала:
— О-о, Господи, Господи! Крест наш!..
Перед обедом приехал доктор, согнувшись в трясучей тележке. Плохо причесанный и невыспавшийся, он пошел, задевая за косяки, к больному. Долго, тяжко долго, возился над ним, выслав из флигеля женщин.
Страшно, тоненьким голосом кричал больной.
— Не надо! Не надо! Не надо! — наполняли двор сверлящие, тонкие взвизгивания, пугая на крышах голубей.
Протяжные стоны заползали в открытые окна, и женщины говорили: «ох!» и зажимали уши,
— Ну? — встретили женщины возвратившегося доктора, вытиравшего полотенцем руки.
Тот глядел под ноготь большого пальца и бережно обтирал его.
— Что? Безусловная смерть! — сказал он. — Пробита печень и кишки.
Лидия Ивановна спросила:
— И он опять будет кричать?
Доктор закурил папиросу, жадно дважды затянулся и медленно, в раздумье, ответил:
— Едва ли, скоро начнется конец. — Опять затянулся, задумался. Оперся рукой на стол. Задумчиво выговорил:
— Если бы в городе… Специалисты-хирурги… Впрочем, и то едва ли… А рядом с вами, в Болотине, — оспа, — добавил он после паузы. — А в Жуковке — дифтерит….
Надежда Львовна поспешно пошла двором во флигель; спотыкнувшись на чурку, чуть не упала. И опять думала:
«Стоит жить?»
Ночью началась агония. Он лежал с высоко поднятыми под одеялом коленами и видел:
В гулких, душных и знойных коридорах суетливо бегали часовые, с горячими жестами, беспрерывно выкрикивали злобно и пронзительно бесконечные цифры: считали папиросы. Накидали их целые груды и все считали, все считали.
«Сколько их! Сколько их!» — тоскливо думал он, беспокойно отворачивая лицо.
— Это — не папиросы, а угли, угли, угли! — кричал монах с суковатым посохом.
— Мне бы только месяц покоя, один месяц, один месяц еще! — жаловался он ему и отворачивал лицо.
Часовые кричали:
— Десять тысяч! Пять тысяч! Три! Два! Ноль!
Цифра «ноль» катилась огненным пылающим обручем в самое лицо.
Читать дальше