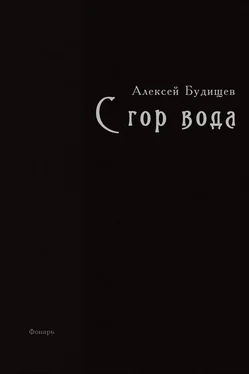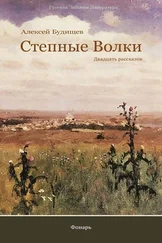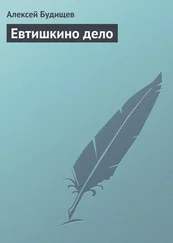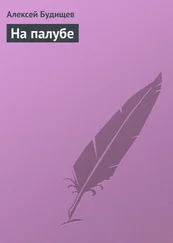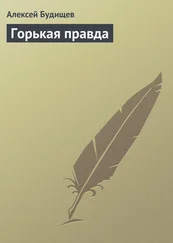— Никогда этому не бывать, казак любый! У тебя выросла я, у тебя и умру!
— Таха! — грозно крикнул и Яков Попов. — Лучше уйти тебе!
Стиснула зубы Таха, взором, как углем, в грудь казачью бросила и повторила, как ломоть отрезала:
— Не бывать этому! Не уйду я от тебя! Плетью гнать будешь, — плеть зацелую и разжалоблю!.. Любый мой, любый, любый!..
Понял казак, что не сломить ее вовеки, и побледнел, будто в плен курдской ордой захваченный. Махнул он рукой и обронил жалобно и тоскливо:
— Ох, Таха…
И ушел.
Вся сияя розовой радостью, кричала та ему вдогонку:
— Любый, любый и любый! Единый под светлым солнышком!
И смеялась, как в колокольчик звонила.
— Надо исполнить, — нашептывал казак по дороге. — Ох, Таха, Таха…
И стали заплетаться его ноги.
Упал он в буераке с красными, точно окровавленными, скатами, тяжко заплакал, рвал зубами высохшую, насмерть зацелованную солнцем траву, и нашептывал:
— Ох, Таха, Таха, Таха…
Через две недели, в праздник, пасла Таха коз тут же, на красном холме, а молодые казачата со старым урядником в стрельбище тешились, мишени у кровавого ската суходола поставили, чтобы не перелетали пули, кой-грех, в станицу. И, улучив минуту, протер свою винтовку Яков Попов, бережно снарядил ее, перекрестился и пошел обходом к красному холму.
Прилег он там за бурым каменником, взял на прицел Таху, чтобы та не мучилась, и, стиснув зубы, стал ждать команды старого урядника: пусть сольется его выстрел с выстрелом казачат, как капля с каплей, в общую струю.
А Таха шагов за двести от него на камне сидела и в длинную дудку не хуже пастухов с Иргиза наигрывала, как жемчуг низала. Плакала эта дудка.
«Любый, мой любый, день и ночь я по тебе тоскую… Твоя Таха до самой смертушки будет…»
Как срезанная, упала Таха с камня и покатилась дудка к шарахнувшимся козам. А он перекрестился истово и подумал:
«Прости меня, Таха… Не свою волю творю, а дедовскую…»
И еще подумал молитвенно:
«Прости еще и за то, что не явно убил тебя, а воровски: мог ли я любовь нашу на базар волочить?»
Повесил он после винтовку свою в хате на гвоздь и разбитой трусцой побежал тотчас же к стрельбищу. Крикнул уряднику:
— Что вы тут делаете? За что вы девчонку мою Таху насмерть побили?
И крикнул казачатам:
— А вы как стреляете, щенки? Могли через этакую стену свинец перекинуть! Э-эх!
Надулся на его лбу шрам от турецкого ятагана кровавой веревкой и злобно выругался он скверным многоярусным словом.
Через три дня хоронили Таху. И в день ее похорон сразу дугой согнулся гордый казачий стан. Шел он за ее гробом, припадая на клюку, сгорбленный, как дряхлый дедушка. Шел и по-стариковски жаловался соседям слезливо:
— Да… жизнь… Укатали сивку крутые горки…
Когда наступила зима, Башкирцев и Ставронская долго ломали головы над насущным для них вопросом:
«Где бы теперь им встречаться?»
Летом они могли устраивать свои уединенные тайные встречи где угодно, не дразня любопытства соседей и не возбуждая ревности мужа Ставронской. Томная и теплая глубина леса, где, перекликаясь, стонут печальные кукушки, гостеприимная черемуховая рощица в поймах, вся точно осыпанная серебряными трелями соловьев, широкие бархатные межи, сладко изнывающие в летнем зное среди высоких ржей, — все было к их услугам. Все, радуя влюбленных, охотно отправляло обязанности «дома свиданий».
А зимой? Ужели во имя благоразумия им надо было отказаться от этих встреч? Но за три месяца их любви сердца обоих еще не пресытились обладанием, даже как будто распалились сильнее, и жизнь без этих встреч и для нее, и для него показалась бы адом.
Нужно было во что бы то ни стало измыслить возможность встреч и рассеять грозный призрак разлуки. Необходимо было встречаться. Но как? Где? Эти вопросы день и ночь стояли перед Башкирцевым.
Потягиваясь по утрам в постели, ежедневно думала и Ставронская: «Где? Как?»
— Если бы я обладала сокровищами всего мира, — говорила она во время мимолетной встречи Башкирцеву, — я охотно отдала бы три четверти за мудрый совет. Где? Как? Зачем судьба послала нам такое препятствие?
Нервный и горячий Башкирцев, гневно дергая свой тонкий ус и прикусывая губу, воскликнул:
— О, я готов раздробить из пистолета пустую голову этой судьбы!
Делая свои глаза влажными, тоскующими и отдающимися, она прошептала, прикладывая палец к губам:
— С-с-с… нас могут услышать! Будь осторожнее!
Читать дальше