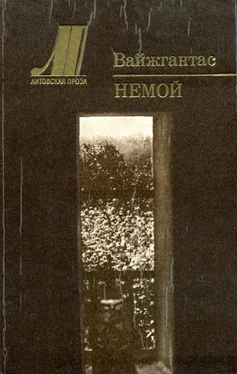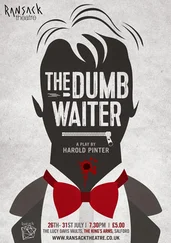Вот Онте прямо-таки бояться его стал и отнекивался бы отчаянно, скажи ему кто-нибудь: «Дурачок, ведь это же ты построил эти хоромы!» — как не согласился бы рабочий, таскавший на верхотуру кирпичи, с тем, что он своими руками уложил их чуть не до поднебесья, пока голову не задерешь, и верха не увидишь.
Что до соседей, то они стали робеть перед вчерашним Венце, картузы перед ним снимать и величать Винцентасом, а молодежь сторонилась его, поскольку он уже превратился для нее в дядю.
Роли Винцаса менялись слишком быстро. Казалось, только вчера он был ребенком у своих воспитателей, и вдруг на тебе — хозяин, владелец двора, хоть и Робинзон. Как во сне. Прошлой осенью грош ему была цена, а нынче, слышь-ка, что кум Ваурус говорит — тысячами дело пахнет, да и соседи, судя по всему, с этим согласны.
И все же Винцас только напустил на себя баронский вид, когда, откинувшись на обитую мягкой кожей спинку сиденья, застыл неподвижно в повозке как столб.
На самом же деле ему почему-то хотелось сейчас плакать. Всем своим существом он чувствовал, что делает серьезный или, не исключено, даже опасный шаг — от ребенка к мужчине — и лишается чего-то прекрасного, отрадного как для своих сверстников, так и для тех, кто помоложе или постарше него, — молодости. Покуда он был «молодой», понимай неженатый, его обуревали, теснясь густым роем, надежды: надеялся он сам, лелеяли надежды насчет него, принца, девушки, надеялись заполучить славного зятя родители подрастающих дочерей. Нынче же как бы спадает вмиг некий покров, и Винцас предстает перед всеми, как чучело на масленицу — уже без одежды, один лишь остов, покрытый стеблями да соломой.
От него не остается больше ничего, что давало бы пищу для зависти и выискивания новых изъянов — повода для пересудов. А кого ж еще будешь оговаривать, кому завидовать, как не тем, кто стоит выше тебя, кто светит ярче, о ком слава громче, ну, кем все интересуются, а укусить не могут? Неужто Онте…
— А знаете, крестный, что я сейчас чувствую?
— Ну-ну, что? — удивился старичок. Что еще можно чувствовать, кроме той работы, которую делаешь? Сделаешь ее, прочувствуешь, примешься за другую.
— Я, крестный, чувствую себя так, будто рублю ветку, на которой сидел до сих пор. По правде говоря, она была не толстой, зато гибкой: гнулась, но не ломалась. А нынче вы меня сажаете пусть на толстенную, однако непрочную: она, не погнувшись, сломается и погубит меня. Вот и еду я сейчас словно не за тем, чтобы получить, а чтобы потерять. Чует мое сердце, крестный, что я могу скорее пасть, чем вознестись, ведь если бы я ежегодно поднимался так, как в нынешнем году, то мог бы разве что царский престол унаследовать.
— Есть высокие места и без царского трона. Мы-то людишки серые, оттого нужны нам удальцы и разумники разных мастей, — успокоил Винцаса крестный Ваурус.
Однако Винцас не успокоился. Он страшился того, что жизненный поток подхватил и несет его, как мощное течение реки щепку, не спрашивая, хочет ли он плыть в этом направлении. Взять хотя бы его женитьбу. Он чувствует непреодолимое желание создать такую семью, какая ему предназначена кем-то, а не избрана им по собственной воле. Выбор, сватовство — ведь человек только пускает пыль в глаза себе и остальным. А зачем это нужно, люди и сами не знают. Разве он, Винцас, выбирал себе Уршулю из множества невинных и милых девушек? Ничуть не бывало. Бросилась ему в глаза, а от глаз ринулась куда-то в глубины души и там сплавилась с его существом. Сейчас-то при всем желании их не разъединишь, до таких операций пока никакие хирурги не додумались. Других женщин он словно и не замечал вовсе, не испытывал никакой тяги ни к одной из них, а сколько их, красивых и богатых, двусмысленно улыбалось ему, строило глазки.
Винцас с первого взгляда почувствовал, что Уршуля предназначена для него, на его блаженство или погибель. С тех пор он ни разу не усомнился, что она вполне может достаться и другому. Винцас был уверен: не достанется, оттого и не видел нужды в том, чтобы объявлять и самой Уршуле, и ее родителям о своем желании вступить с ней в брачный союз, хотя уже весь свет догадывался об этом.
Целый год, иначе говоря, с тех пор, как Винцас стал вить себе уютное гнездышко, его жизнь подсознательно была подчинена новой силе, словно воображение его было озарено неким небесным сиянием, которое мало-помалу заслоняло собой все остальное. Это только казалось, что он сколачивает хозяйство, — на самом же деле он трудился-батрачил под действием этого сияния, творил по его велению; творил, ибо чувствовал себя переполненным чем-то, и притом настолько, что ему непременно нужно было с кем-нибудь поделиться этим, отдать всего себя кому-то.
Читать дальше