Однако в тот вечер мне почему-то было тяжело. В огромном трактире пусто и тихо. Я сидел за столиком один, погруженный в свои мысли, поодаль стоял длинный стол, за которым ужинали официанты. Громкие шутки их не выводили меня из задумчивости, а, напротив, усиливали мое грустное настроение. Я думал о том, что весь мир забыл обо мне, что у меня нет ни единого друга, который не предпочел бы пригласить к своему праздничному столу кого-нибудь более близкого, чем я; что во всем божьем мире нет ни одного сердца, которое испытывало бы ко мне доверие, которое прижалось бы к моему сердцу, волнуясь и радуясь вместе со мной. Я сравнивал себя с куском льда, близость которого заставляет всех испытывать неприятную дрожь и сторониться его обидного безразличия. Конечно, мои знакомые, — я не мог, не решался и не хотел называть их друзьями, — сейчас, каждый по-своему, радуются, веселясь со своими близкими. И, конечно, никто из них, абсолютно никто, не вспомнит обо мне. Хотя из-за своего «своенравия» я не чувствовал сильного огорчения, мне все-таки было тяжело.
Я загляделся на потрескивающий, пылающий, как огненный цветок, газ. Потом глазам стало больно смотреть. Я отвернулся и и вдруг заметил, что в трактире я не один: за столом напротив — еще кто-то, на кого я совсем не обратил внимания. Он сидел, опустив голову на стол, — в той самой позе, в какой сидел, когда я только вошел. Я спросил у официанта, кто это, и получил ответ, не располагающий к дальнейшим расспросам:
— Какой-то пьяница!
Я бросил взгляд на одежду незнакомца: одет он был бедно.
Снова задумавшись, я без всякой цели уставился на спящего.
Вдруг он быстро, словно его что толкнуло, поднял голову и повернулся лицом к свету. Поспешно поднес правую руку к глазам, и по щекам его скатились две слезы.
«Нет, он не пьян, — подумал я. — А если сегодня и пьян, то бог знает отчего!»
Я еще раз посмотрел на него, надеясь найти в лице его что-нибудь знакомое. Лицо это нельзя было назвать красивым, но оно имело выражение мужественного страдания. Глубокие морщины избороздили лоб и щеки, свидетельствуя о том, что у этого человека, которому на вид не больше сорока, нелегкий жизненный путь за плечами. У него были слезы на глазах: я заметил, что он тоже смотрит на меня с удивлением. Я понял, что мое любопытство ему неприятно, быть может, даже обидно.
— Добрый вечер, сударь, — сказал я, чтобы завязать разговор.
— Что вам угодно?
— Да просто так.
Он ничего не ответил.
— Вы празднуете сочельник так же, как я. У нас обоих как будто одинаково праздничное настроение! У вас, видимо, тоже нет друзей, с которыми вы могли бы…
— Это никого не касается.
«Ты прав», — подумал я, но ничего не сказал, а начал вполголоса насвистывать какой-то марш, постукивая ножом по кружке.
Прошло несколько минут.
— Хе-хе-хе! — послышалось вдруг из-за противоположного столика.
Я посмотрел туда с удивлением и досадой.
— Вы как будто обиделись, — промолвил незнакомец. — Молодая кровь еще не мирится с грубостью.
— Позвольте, сударь…
— Пожалуйста. Выскажите мне все, что хотите! Знаю, каково молодому человеку сидеть в сочельник в каком-то чужом, похожем на склеп трактире, где, кроме него, два-три человека по углам, и все молчат, словно решили завтра же покончить с собой. В таких случаях даже у старых дураков нелегко на сердце, и я не удивился бы, если б молодые люди вдруг вынули из карманов две-три тонкие свечки, зажгли их и поставили перед собой.
Он встал, взял свою уже почти пустую кружку и подсел ко мне.
— А что, — продолжал он, — ведь это правда: в сочельнике очень много поэзии. Поневоле приходится признать, что в этот день — единственный раз в году — вас охватывает какое-то праздничное чувство: я сказал бы, чувство светлое, солнечное. Суета, всякие приготовления, сияющие лица нетерпеливых детей… Даже у тех, кому в детстве не привелось ни разу праздновать сочельник, в голове начинают роиться новые мысли. Детские сердца ликуют, независимо от того, кто родители — богачи или поденщики. Да и у взрослых в этот день такое чувство, будто вокруг них, как пылинки в солнечных лучах, летают крошечные ангелочки с восковыми личиками, льняными волосиками и отстающей, дрожащей сусальной позолотой. Кажется, весь воздух потрясает мощная торжественная «Слава!» — умилительная, как звуки золотой арфы, в могучей гармонии самых высоких тонов и самых проникновенно-глубоких, словно небесный хорал в бетховенской симфонии!
Читать дальше
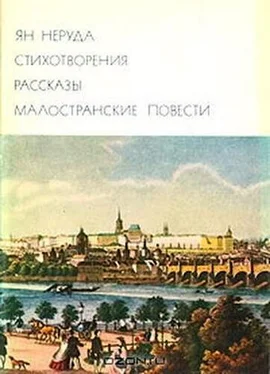


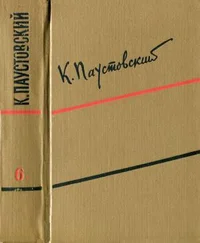






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

