Как-то раз я попал в Прагу, — но больше меня там на сцену не заманят!
В провинции я играл всегда одни первые роли и, как говорится, законтрактовался только на них. А здесь мне давали играть одних умирающих и раненых, да еще придирались ко мне за то, что я и в этих ролях имел успех.
Критики молчали, словно набрав воды в рот; только один отдал мне должное, отозвался обо мне хорошо. Он публично хвалил мою прекрасную внешность, говорил, что я выгляжу так, будто господь бог из дерева меня выстругал. Благородная душа!
Напрасно добивался я более крупной роли. Думал, что мне наконец повезет в мой бенефис. Заказал одному поэту новую пьесу и сказал ему:
— Обязательно, чтоб была хорошая роль для меня. Понимаете, что-нибудь светское, остроумное!
— Понимаю, — ответил поэт. — Чтоб вам быть чем-нибудь необыкновенным, да?
И у него здорово получилось; я играл в его пьесе глупого слугу, которого все время колотят.
К следующему бенефису я решил написать пьесу сам. «Лучше всего взять исторический сюжет», — подумал я и достал себе Палацкого {45} . Но книга эта — совершенно бесполезная: всякие там мелочи да комментарии, а ни одного события, подходящего для трагедии.
В конце концов Прага мне надоела; я собрал свои пожитки и сказал:
— Adieu [3], Прага, на тебе свет клином не сошелся!
Я пользовался исключительным успехом у женщин. Ну прямо до неприличия! Только на какую-нибудь взгляну — моя.
Не говорю уж о той молодой цыганке, которая так в меня влюбилась, что целый год бродила по следам нашей труппы: где мы ни остановимся, она тут как тут.
Я любил эту черноглазую смуглую чаровницу; мне даже казалось, что она меня околдовала; товарищи надо мной смеялись: дескать, может, это какая цыганская княжна? Конечно, я был гораздо выше этой бедняжки, но что из этого? На все насмешки я отвечал строчками из Раупаха {46} :
Ungleich aber kann mit Ungleich nur in Liebe siche vereinen [4].
Либо из Гоувальда:
Die Liebe fragt nicht nach der
Väter Stand [5].
Дело в том, что у нас тоже была эта привычка — в разговоре друг с другом перейти на немецкий, на язык просвещенной нации: это считалось хорошим тоном. Тут мы подражали провинциальным чиновникам; впрочем, я замечал эту манеру и у пражских литераторов.
Жениться на цыганке я, понятно, не собирался, так как разделял мнение Иффлянда:
Ehret die Rechte der Natur, folgt dem Zuge
der Liebe, so bedürft ihr keiner Gesetze [6].
Эта цыганка любила меня безмерно, пока наконец, вспомнив слова Тыла {47} : «Тот, кто любит, хочет любить… и ничего больше…» — не украла мои серебряные часы и не скрылась с ними.
Когда же обнаружилось, что у многих членов нашей труппы пропали еще более нужные предметы, я понял, что мои товарищи были с ней в гораздо лучших отношениях, чем делали вид.
Самой пламенной моей страстью была «гусарская принцесса». Так называли в Л. одну барышню, которая была безумно влюблена в лейтенанта-гусара. Но только она увидела меня на сцене, ее «словно кто приковал ко мне алмазными цепями», она написала мне записочку, полную любви и запаха кофе, на чашку которого она меня приглашала. О гусаре больше и речи не было. Потом ее стали называть «театральной принцессой».
У нее было много денег, и я искренне любил ее; но она хотела остаться свободной — «из принципа», как она говорила. Я был так влюблен, что даже посвятил ей стихотворение, очень удачное, начинавшееся словами:
Ах, что-то есть, я чувствую прекрасно…
Но в это время умер наш директор; осталась вдова с тремя детьми. Труппа не знала, что делать. В конце концов директорша вывела нас из затруднительного положения. Она позвала меня и спросила, не хочу ли я стать ее мужем.
— Надо подумать, — сказал я.
Долгов у покойного не было, дело он поставил солидно, труппа пользовалась хорошей репутацией, — я решился. Единственно, что меня смущало, — это то, что вдове было дважды двадцать лет. А свою пламенную любовь к принцессе я затоптал, мысленно сказав вместе с Раупахом: «Entschlossenheit zum Schwersten Opfer ist der Liebe Ruhm und höchste Offenbarung» [7].
Я женился на директорше, стал директором и теперь согласен с Шекспиром, что любовь — это «разумное безумие, отвратительная желчь и сладкое умащение {48} ».
Случай в сочельник
Перевод Д. Горбова
Был вечер сочельника, и я сидел в трактире. Никогда не проводил я этот праздник в семейном кругу, но никогда и не жалел об этом, — наверно, потому, что просто не представлял, что это такое. Даже в детстве этот красивый и поэтичный праздник был для меня безразличен: у меня никогда не было причин радоваться его приходу и жалеть, что он миновал. Стесненные обстоятельства, в которых находилась наша семья, не допускали и в этот день никаких изменений. Рыбу я видел только на рынке, где простаивал долгие часы, глядя, как плещутся эти засыпающие, таинственные и немые создания; наряженные елки созерцал только в окнах чужих квартир, — какими их часто и до тошноты красиво описывают новеллисты. Не могу сказать, что меня особенно беспокоило отсутствие всего этого: я рос странным ребенком, отличаясь особым свойством, которое у детей называется упрямством, а у взрослых — покорностью судьбе. Это было упрямство нищенки, которая стоит весь день, в холод и мороз, с протянутой рукой, видит вокруг себя драгоценности, слышит шелест роскоши, но ничему и никому не завидует.
Читать дальше
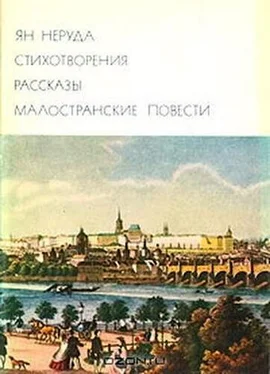


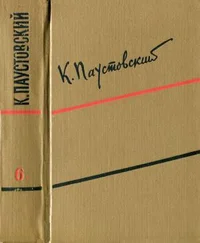






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

